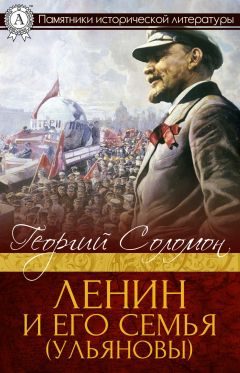– Да, брат, – говорил Красин, – с грустью приходится убедиться в том, что личные счеты у нас легли во главу угла отношения друг к другу… Меня, например, Литвинов ненавидит всеми фибрами своей душонки… это старые счеты еще со времен подполья. Вечная, ничем несдерживаемая зависть, боязнь остаться позади. И вот и на тебя он переносит ту же ненависть и всеми мерами старается, чтобы ты, Боже сохрани, как-нибудь не выдвинулся бы выше него.
Он, конечно, забыл, или сознательно, просто по маленькой подлости маленького человечишки, озлобленного превосходством других, делает вид, что забыл, как ты, когда то, еще в Бельгии, после его ареста в Париже, ломал копья за него…
А когда ты остался один в Гамбурге, среди волнующегося моря революции, а потом был арестован, он, опасаясь того ореола, который может тебя окружить в глазах советских верхов и выдвинуть, почувствовал к тебе глухую ненависть и всеми мерами старался использовать этот благоприятный случай утопить тебя… Я знаю, что фактически он застопорил вопрос с ответами на твои радио из Гамбурга, на телеграммы мин. ин. дел о вашем аресте…
Это человек из породы тех, которые по своей натуре, способны лишь к мелкой, обывательского характера злобе к тем, кто им протягивает руку помощи, оказывает одолжение… Вообще насчет благородства здесь не спрашивай… Все у нас грызутся друг с другом, все боятся друг друга, все следят один за другим, как бы другой не опередил, не выдвинулся…
Здесь нет и тени понимания общих задач и необходимой в общем деле солидарности… Нет, они грызутся. И поверишь ли мне, если у одного и того же дела работает, скажем, десять человек, это вовсе не означает, что работа будет производиться совокупными усилиями десяти человек, нет, это значит только то, что все эти десять человек будут работать друг против друга, стараясь один другого подвести, вставить один другому палки в колеса и таким образом в конечном счете данная работа не только не движется вперед, нет, она идет назад, или в лучшем случае, стоит на месте, ибо наши советские деятели взаимно уничтожают продуктивность работы друг друга… Право, в самые махровые царские времена, со всеми их чиновниками и дрязгами не было ничего подобного… Но ведь то были чинуши, бюрократы, всеми презираемые, всеми высмеиваемые, а теперь ведь у власти мы, соль земли!.. ха-ха-ха! посмотри на нас, как следует и окажется, что мы во всей этой слякоти превзошли и Перидоновых и Акакий Акакиевичей и всех этих героев старого времени…
Я заговорил с ним о моих тяжелых впечатлениях в пути по России.
– Недовольство, говоришь ты, – ответил Красин, – да, брат, и злоба, страшная злоба и ненависть… Делается все, чтобы искушать человеческое терпение. Это какое то головотяпство и они рубят сук, на котором сидят. И, конечно, если народ поднимется, всем нам не сдобровать, – это будет пугачевщина и народ зальет Россию кровью большевиков и вообще всех, кого он считает за таковых… и за господ…
– Хорошо, – возразил я, – ну, а твое влияние на Ленина? Неужели ты ничего не можешь сделать?
– Ха, мое влияние, – с горечью перебил он меня. Ну, брат, мое влияние это горькая ирония… В отдельных случаях мне иногда удается повлиять на него… когда, например, хотят «вывести в расход» совсем уже зря какого-нибудь ни в чем неповинного человека… Но, мне кажется, что на него никто не имеет влияния… Ленин стал совсем невменяем и, если кто и имеет на него влияние, так что «товарищ Феликс», т. е., Дзержинский, еще больший фанатик и, в сущности, хитрая бестия, который запугивает Ленина контрреволюцией и тем, что она сметет нас всех и его в первую очередь… А Ленин – в этом я окончательно убедился – самый настоящий трус, дрожащий за свою шкуру… И Дзержинский играет на этой струнке… Словом, дело обстоит так: все подавлено и подавляется еще больше, люди боятся не то, что говорить, но даже думать… Шпионство такое, о каком не мечтал даже Наполеон третий – шпионы повсюду, в учреждениях, на улицах, наконец, даже в семьях… Доносы и расправа втихомолку… Дальше уже некуда идти…
– А тут еще и белое движение, – продолжал он, – на юге Деникин, на северо-западе Юденич, на востоке Колчак, на Урале чехословаки, а на севере англо-добровольческие банды… Мы в тисках… И для меня лично не подлежит сомнению, что нам с нашими оборванцами, вместо армии, плохо вооруженными, недисциплинированными, без технических знаний и опыта, не сдобровать перед этими белыми армиями, движущимися на нас во всеоружии техники и дисциплины…
И все трусят… И знаешь, у кого особенно шея чешется и кто здорово празднует труса – это сам наш «фельдмаршал» Троцкий. И, если бы около него не было Сталина, человека, хотя и не хватающего звезд с неба, но смелого и мужественного и к тому же бескорыстного, он давно задал бы тягу… Но Сталин держит его в руках и, в сущности, все дело защиты советской России ведет он, не выступая на первый план и предоставляя Троцкому все внешние аксессуары власти главнокомандующего… А Троцкий говорит зажигательные речи, отдает крикливые приказы, продиктованные ему Сталиным, и воображает себя Наполеоном… расстреливает…
И он рисовал передо мной самые мрачные картины, одну за другой. Всякое проявление свободы убито, прессы нет, кроме казенной, нет свободы стачек, рабочих, при попытке забастовать, арестуют, ссылают и преспокойно расстреливают…
Так мы беседовали об общем положении в России. И внезапно, как это часто бывает между близкими людьми, в одно и то же время одна и та же мысль резнула его и меня. Мы посмотрели друг другу в глаза и сразу поняли друг друга. Поняли без слов…
– Да, – как то тихо и особенно вдумчиво протянул Красин, – мы с тобой сделали непоправимую ошибку…
– Непоправимую, – тихо повторил я. – Теперь ничего не поделаешь… Назвался груздем…
Напомню, что Красин в это время был одновременно народным комиссаром путей сообщения, а также торговли и промышленности. И тут же он предложил мне пост его заместителя, как народного комиссара торговли и промышленности. Я категорически стал отказываться от этого поста. И не из чувства излишней скромности, а по соображениям другого порядка. Мне вспомнилась вся та травля, которой я подвергался на должности первого секретаря берлинского посольства, а затем вся та склока, которой сопровождалось мое назначение консулом в Гамбург, а также все отношение ко мне Чичерина и компании после германской революции с моим радио из Гамбурга и моим арестом… Все это приводило меня к мысли, что на новом высоком посту мне не избежать новых трений, новых подвохов, подсиживаний, сплетен, нашептываний и пр. И поэтому то, мотивированно отказываясь от предложения Красина, я просил его о назначении меня не на пост, а на какую-нибудь скромную должность, говоря ему, что на каждом месте я останусь самим собой со всем моим опытом, знаниями, добросовестностью и пр. Он долго возражал, настаивая на своем.
– А ты не думаешь Леонид, – сказал я, – что это назначение вызовет такую же склоку, какую я перенес при назначении меня консулом в Гамбург?…
– Нет, – решительно возразил он, – этого бояться нечего, особенно в виду того, что я, получив твою телеграмму о выезде из Берлина, имел беседу с Лениным. Он спросил меня: «Имеете ли вы какие-нибудь виды на Соломона, Леонид Борисович?». Я ему ответил, что в виду смерти Марка Тимофеевича Елизарова (Муж сестры Ленина. О нем см. во введении к настоящим воспоминаниям. – Автор.), бывшего моим заместителем по комиссариату торговли и промышленности, я хотел бы, чтобы ты занял этот пост с тем, чтобы, когда ты ознакомишься с ходом дел и вообще войдешь в курс советской жизни, я устранился бы совсем, и ты стал бы народным комиссаром. Ленин согласился с этим вполне и прибавил: вот и великолепно -
«кстати, он был большим другом покойного Марка…»
Так что, видишь, твои опасения на счет склок совершенно неосновательны, раз уж сам Ленин согласен…
Красин добавил к этому еще чисто дружеские уговоры… И я согласился.
– Да, кстати, – добавил Красин, – Ленин напомнил мне, что ты должен обязательно официально зачислиться в коммунистическую партию. Тебе нужно будет повидаться с Еленой Дмитриевной Стасовой (тогдашний секретарь коммунистической партии), которая уже предупреждена. Ты ее знаешь?
– Нет, никогда не встречался… А что она за человек?
– Она то? – ответил Красин. – В двух словах, это просто кровожадная ведьмистая баба с характером, сочувствующая расстрелам и всякой гнусности… Ну, да ничего не поделаешь…
Затем я сообщил Красину о поручении литовского правительства и просил его передать о нем Ленину. Сперва Красин долго настаивал на том, чтобы я лично переговорил с Лениным об этом:
– Да понимаешь ли ты значение этого предложения?… Ведь это была бы первая брешь в окружающей нас блокаде. Ведь вслед за миром с Литвой и другие страны поспешили бы установить с нами дипломатические сношения… Нет, ты должен сам сообщить ему об этом. Он, конечно, будет в восторге и, увидишь, это отразится и на твоих отношениях с ним…