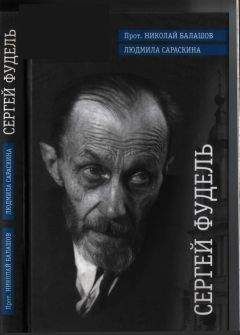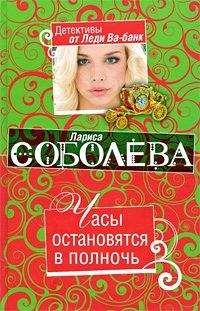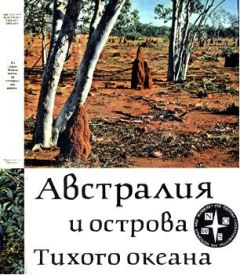Несомненным вкладом Фуделя в понимание Достоевского стало подробное и профессиональное освещение той роли, которую сыграли в творчестве писателя труды святителя Тихона Задонского; понятно, что одной только филологической подготовки для этого было бы совершенно недостаточно. Великий обличитель русского общества в его ложной церковности, архиерей, живший на покое в Задонском монастыре Воронежской епархии, стал, как утверждает Фудель, опорой творчества Достоевского. Его учение о вере и любви было необходимо Достоевскому, противопоставившему истинное христианство христианству ложному. Учение Тихона и сама фигура святого старца стали для Достоевского антитезой демоническим, бесовским силам — ведь если возможен Тихон, какой он явлен в реальности, значит, не ложно обетование Нового Завета о духовной непобедимости Церкви, значит, наполнена смыслом борьба за Христа с силами зла и ненависти, поглощающими Россию. Но высший смысл эта борьба приобретала потому, что не только не предполагала какое бы то ни было насилие, а возвещала всему миру о вселенской радости живой жизни. Достоевский понимал, пишет Фудель, что христианство — это не курс догматического богословия, а пасхальная ночь на земле. «И в том дерзновении и твердости, с которой он передает нам эту истину, его великая заслуга перед христианами нашей эпохи»[362].
В мире Достоевского даже самый искренний в вере человек поставлен перед неразрешимой дилеммой, которая присуща христианству: верой в неумираемость Церкви и неверием в победу христианства в истории. Поэтому даже самые «христианские» его сочинения полны исторической безнадежности, чувства обреченности истории. Достоевского, как и старца Тихона, преследовала эта мысль, и он до боли настойчиво, почти маниакально ищет и находит доказательства иссякания христианства в пустынях истории. Вера требует элементарной дисциплины, работы, труда над собой прежде, чем над миром. Но эти понятия, являющиеся азбукой христианства, режут ухо всякого интеллигента — атеиста. Ведь едва закончив «Бесов», получив личный творческий и духовный опыт одоления демонического соблазна, Достоевский на страницах черновиков к «Подростку» смог признаться себе: «Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его…»[363] Глубочайший смысл, сокрытый в трагической тайне человека, для которого уже нет света, нет исправления, то есть все напряжение исторического пессимизма, в «Бесах» прочувствован и разгадан Фуделем. Одной фразой характеризует он христианский подвиг автора «Бесов»: «Во имя борьбы с ночью истории написан этот роман»[364].
Но точно так же, как жило в Достоевском ощущение трагедии истории, жила в нем и вера в духовное здоровье человечества. Не раз он говорил о возможности «братского, окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону»[365]. Мы не знаем, пишет Фудель, где содержится в Евангелии закон о гармонии земной истории. Христианин, если он не лукавит и знает Евангелие, не может верить в духовное благополучие истории. «Но он должен вполне верить в торжество христианского терпения этой истории, терпения около теплых стен Церкви»[366].
Роман «Братья Карамазовы» Фудель называет путеводителем в Церкви для интеллигенции. Подробно раскрывает он борьбу Достоевского против затемнения лика Христа, против погружения веры в быт и обряд, против обмирщения Церкви. Учение о Церкви, полученное Достоевским от оптинских старцев и Тихона Задонского, проверенное в библейском горниле книги Иова, поразившей писателя еще в детские годы, помогало и самому Достоевскому. Ему надо было убедиться, пишет Фудель, что путь страданий его души в борьбе за Бога есть благословенный путь многих душ, есть путь Церкви — «Церкви не панлютеранских съездов и гуманистических деклараций, а Церкви подвига и стояния у Креста»[367].
Искусство Достоевского после 1865 года Фудель рассматривает как целостное и глубочайшее переживание христианства. Литературное воплощение этих переживаний стало для автора «гениального пятикнижия» великим счастьем познания мира и человека, делом священной значительности — «работой Господней». Достоевский, осуществляя религиозную проповедь через искусство, по мнению Фуделя, исправил ошибку Гоголя, отказавшегося от искусства, так как понял, что защиту христианства он, Достоевский, должен вести наиболее доступным ему путем. Поэтому художественное творчество стало для него одной из форм религиозной жизни, «радугой над водами религии». Красота — загадка, но она не может противоречить Добру и Истине.
Объясняя тезис Достоевского о религиозном происхождении искусства («Тайна Христова»), Фудель предлагает свою интерпретацию понятия «нравственный центр произведения искусства»: это луч, открывающий среди ограниченного, тленного мира — мир иной и вечной реальности. В искании этого мира и состоит художественный замысел; «вся композиция произведения вращается вокруг оси — “да” или “нет” божественной жизни, “да” или “нет” вечности». Страстным и сердечным высказыванием Достоевский стремился хоть на единый исторический миг задержать образ Христа в холодеющем мире — и как отличается нервный, задыхающийся голос петербургского литератора от великолепия, неторопливости, грамотного спокойствия официальной церковной проповеди! «Достоевский точно ударами в сердце напоминает о Христе»[368], — пишет Фудель.
Незадолго до смерти, в «Дневнике писателя» 1880 года, Достоевский заметил: «Да, конечно… настоящих христиан еще ужасно мало (хотя они и есть). Но почем вы знаете, сколько именно надо их, чтоб не умирал идеал христианства в народе, а с ним и великая надежда его?.. До сих пор, по — видимому, только того и надо было, чтоб не умирала великая мысль»[369]. В работах Фуделя это высказывание цитируется не раз.
О неумирании великой мысли молился молитвой Девятого часа крестник тюремной церкви в Бутырках, бывший заключенный вечного русского Мертвого дома, автор замечательного и вдохновенного труда, посвященного Достоевскому: «Не предаждь нас до конца имене Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоея от нас…»
С. И. Фудель об искусстве и литературе
В 1963 году, сразу по окончании книги «Наследство Достоевского», С. И. Фудель пишет по просьбе своего друга, искусствоведа H. H. Третьякова, большую статью в форме письма о своем понимании искусства[370].
Фундаментальное убеждение, сформировавшееся у Фуделя в процессе работы над книгой о Достоевском, сложилось в целостную концепцию роли литературы и искусства. Искусство решило заменить христианство, полагает С. И. Фудель. Люди, потерявшие христианство (или его еще не знающие), приняли искусство как новую религию. Три стороны христианства — догматическая, нравственная и обрядовая — в новой религии, то есть в искусстве, получили новые же значения. Убеждение, что абсолютной Истины нет, стало догматом; вывод, что в искусстве все более или менее позволено, воспринимается как новая нравственность, а художественное мастерство — как обряд.
Фудель вспоминает феномен Гоголя, осознавшего под конец жизни факт своей беспомощности как художника. «Он, возможно, был и не прав, так как, перестав быть литератором, он еще не сделался христианским учителем, но его осознание бесплодности глубоко показательно»[371]. В чем же дело? — задается вопросом автор письма. Проблема в высокомерной претензии искусства «совершать добро», «сеять разумное, доброе, вечное». Чем больше дискуссий о «добром» влиянии искусства, тем меньше в нем обретается людей духовной силы и власти. Даже и великие писатели, несмотря на всю их пользу, всегда бывают недостаточно духовно сильны (к тому же всегда духовно одиноки) для прочного доброго влияния на человечество. «Христианство победило кровью Голгофы и кровью мучеников. А много ли писателей хотя бы писало кровью сердца?»[372]
Достоевский для Фуделя именно такой писатель. Художник, отыскивая красоту в мире, совершает познание Бога, ее создавшего. Утверждая красоту строя и Строй красоты, он способствует сохранению мира, его спасению. Недаром Достоевский, поняв спасительность божественной гармонии, сказал: «Красота спасет мир». «Я знаю в наше время молодых, которые молятся за Диккенса и Достоевского, давших им какой‑то свет жизни»[373]. Великое оскудение религиозной жизни побуждало писателей — Тютчева, Лескова, Лермонтова, Пастернака, Экзюпери — к служению. «Один том Достоевского или та страница у Диккенса, где маленький Джо умирает, силясь понять “Отче наш”, дают больше для доказательства силы христианства, чем иногда целая духовная семинария. Ведь доказывать надо не “вообще” христианство, а именно силу его в современной душе.<… >Нам сказано: “Дух дышит, где хочет”. Духовное оскудение христианства есть исторический факт, предуказанный в Евангелии. Когда начали оскудевать священники Божии, Он стал иногда говорить через людей, носящих пиджаки»[374].