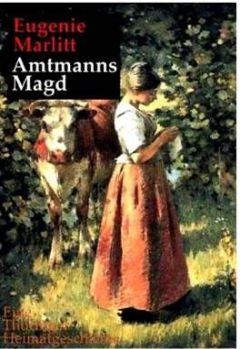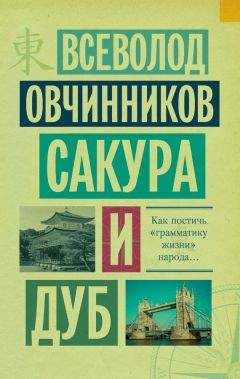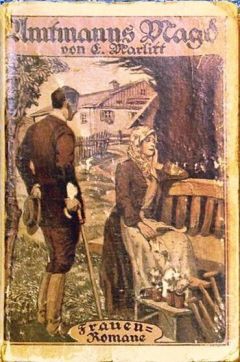Будто подсказывая наглядный пример, экспресс «Хикари» замедлил ход, чтобы сделать первую остановку на своем пути. Внизу под эстакадой проплыли улицы Нагои. Потом потянулись корпуса цехов со знакомой каждому японцу маркой «Торэй». Это был завод фирмы «Тойо рэйон» – главного производителя искусственного волокна и изделий из него.
Фирма первой в Японии начала выпускать нейлон, купив патенты в Америке у концерна «Дюпон». Она хорошо нажилась на этом, будучи первой, но понимала, что не останется единственной. Синтетическая нить произвела переворот в текстильной промышленности. Спрос на нее увеличивался из года в год. Однако число желающих погреть руки на этом прибыльном деле росло еще быстрее. Все новые компании вкладывали туда свои капиталы и, несмотря на явно обозначившуюся угрозу перепроизводства, вводили в действие завод за заводом.
Чтобы сохранить за собой лидерство в условиях обостряющейся конкуренции, фирма «Тойо рэйон» выделила солидную долю прибылей на разработку принципиально новой технологии. Был создан институт фундаментальных исследований, нацеленный работать на десятилетия вперед.
Один из результатов этих усилий можно увидеть на заводе в Нагое.
При изготовлении капролактама – сырья для нейлона-6 – здесь впервые освоено промышленное применение реакции фотосинтеза. Человек воспроизвел нечто подобное тому, что творит солнечный луч в зеленом листе. Да и сама установка похожа на живой организм, на печень великана, опутанную сосудами и капиллярами, по которым таинственными процессами струится жизнь.
Восемнадцать реакторов для фотосинтеза – восемнадцать котлов, где бушует ослепительная зеленоватая стихия. Силу ее постигаешь только у испытательного стенда, где пробуют ртутную лампу в сорок тысяч ватт. А ведь там их множество. В каждом из реакторов заключено вдвое больше света, чем бывает на ярко освещенном стадионе во время вечернего матча.
«Тойо рэйон» намерена предложить покупателям лицензию на новый производственный процесс вместе с полным комплектом оборудования. Такой сдвиг в торговле знаменателен для Японии. Стране, живущей на привозном сырье, несравненно выгоднее продавать оборудование вместе с технологией, чем готовые изделия.
Корпус фотосинтеза на заводе в Нагое показывает, что девиз «Перенимая – опережай» воплощает все более широкий смысл…
– Чуткость к новому – откуда взялось у японцев это качество? Не считаете ли вы, что оно родилось в ответ на принудительную изоляцию времен сегунов Токугава, которые триста лет продержали страну взаперти? – философски заметил англичанин.
– Случилось так, что прежде всех начали перенимать чужое мы, судостроители, – усмехнулся японец. – Причем первым толчком здесь послужил эпизод с русским фрегатом «Диана»…
Произошло это еще во времена Хиросиге, в последние годы его жизни. Сильное землетрясение 1855 года застало у берегов Японии русский фрегат. Гигантской волной «Диана» была разбита и затонула. Команде удалось спастись. Русские моряки попросили разрешить им приобрести материал и нанять плотников, чтобы построить небольшую шхуну для возвращения на родину. В благодарность за помощь судно потом передали в дар Японии.
Внезапный ингерес к опыту чужеземцев был следствием происшедших незадолго до того событий. В серии «Пятьдесят три станции Токайдо» есть картина под названием «Канагава». Хиросиге изобразил тихую бухту, рыбачьи паруса, задумчивые зеленые холмы – место нынешней Иокогамы. Именно здесь в 1854 году появилась американская эскадра коммодора Перри. «Черные корабли», как их прозвали в народе, возвестили об угрозе вторжения заморских колонизаторов. Перед страной встала срочная необходимость создавать современный флот.
Судьба «Дианы» давала удобный случай поучиться. Чертежи, по которым строилось первое в Японии килевое судно, были сделаны рукой русского морского офицера Можайского – будущего изобретателя самолета.
Ровно сто лет спустя Япония стала первым кораблестроителем мира. И кстати говоря, именно в этой отрасли японцы раньше всего завоевали мировое первенство.
В бухте Канагава, которую когда-то рисовал Хиросиге и где японцы впервые увидели «черные корабли», были спущены на воду морские гиганты водоизмещением свыше ста, а затем и более трехсот тысяч тонн. Здесь, как и в ряде других отраслей, японцам удалось чутко уловить тенденцию. Они предугадали переход к строительству огромных танкеров и встретили его во всеоружии.
Первыми перешагнули за рубеж ста тысяч тонн греческие судовладельцы. Экономическая целесообразность такого пути еще казалась спорной. Япония же решительно пошла по нему, взяв в расчет бурный рост потребления нефти при удаленности большинства индустриальных стран от мест нефтедобычи.
На примере судостроения можно увидеть еще одну примечательную черту японской экономики: осознанное чувство отрасли. Даже в условиях капиталистической конкуренции однородные фирмы ощущают потребность во взаимной координации, сознают необходимость выступать как единое целое при решении многих вопросов.
У предпринимателей есть секреты друг от друга, но, соперничая между собой, они стремятся к повышению общей конкурентоспособности всей отрасли на мировом рынке.
В этом видит свою главную заботу Японская ассоциация судостроителей, по существу выполняющая роль министерства, или, точнее, картеля: она регулирует цены, загруженность заказами, ориентирует компании во всем новом, что делается в стране и за рубежом. На вопрос, что дает ему членство в ассоциации судостроителей, осакский промышленник, не колеблясь, ответил:
– Прежде всего кругозор. В наш век нельзя быть лягушкой на дне колодца.
Мы снова молча глядим на широкий экран вагонного окна, за которым стремительно развертывается панорама современной Японии. Какую же из черт ее портрета прежде всего оставляет теперь в памяти путешествие по Токайдо?
Чуткость к новому? Конечно, Япония сейчас не та, что во времена Хиросиге. Но сколь бы разительными ни были эти перемены, Япония все же меняется по-своему, по-японски. Чуткость к окружающей среде издавна присуща японскому характеру, стойкому именно благодаря своей гибкости. Стремление приспособиться к современности отнюдь не означает готовности отказаться от своих национальных черт. Напротив: приспособиться всегда означало для японца уцелеть.
В чужой стране люди чаще, чем у себя дома, сетуют на то, что многие самобытные, национальные черты стираются, исчезают в общем процессе обновления форм жизни.
Помню, как наш коллега – французский коммунист Пьер Куртад горевал, что напротив гостиницы «Советская» сносят старые бревенчатые дома с резными наличниками, которые, по его убеждению, украшали этот уголок Москвы неизмеримо больше, чем кварталы типовых многоэтажных зданий. Но люди, селившиеся в этих живописных приземистых срубах, – те, кому приходилось колоть на морозе дрова и до рассвета растапливать печи; кто был вынужден ходить в баню вместо того, чтобы мыться в собственной ванне, – эти люди вряд ли сожалели о переезде в новые благоустроенные квартиры.
С облегчением обнаружив, что в уличной толпе современного японского города все еще можно порой видеть женщин в кимоно, приезжий радуется, что успел застать хоть одну из исчезающих черт «подлинной Японии», и следом тут же принимается сетовать:
– Как жаль, что большинство японок отказываются от своего национального костюма! Неужели они сами не видят, что западные платья и юбки им не идут, делают их коротконогими и нескладными, лишают их своеобразной грации…
Японки, разумеется, знают все это. Конторщицы не ходят на работу в кимоно прежде всего потому, что в нем нельзя спешить: нельзя нестись сломя голову по подземным переходам метро, втискиваться в переполненный вагон – словом, выдерживать лихорадочный темп современной жизни.
Иностранец, негодующий по поводу того, что кимоно носят сейчас не все японки, должен был бы вместо этого поражаться их преданности древнему наряду, хотя он стесняет движения, холоден зимой, дорог и непрактичен, так как его нельзя стирать и приходится распарывать при каждой чистке.
Японская девушка вполне может пройтись по улице в кимоно своей прабабки – и наряд этот никому не покажется архаичным или даже старомодным, причем он будет выглядеть как раз впору, даже если девушка эта на голову выше и вдвое тоньше прежней хозяйки кимоно.
Можно лишь дивиться тому, что японский национальный костюм не зависит ни от мод сезона, ни от вкусов поколений, ни даже от роста или комплекции человека.
Кимоно кроится по геометрическим линиям, не связанным с чьей-то конкретной фигурой, и шьется по единому образцу, который вошел в обиход за много веков до появления стандартного готового платья. Полы здесь не застегиваются, а запахиваются, длина всегда имеет большой запас, так что, надевая кимоно, японка всякий раз как бы заново подгоняет его по себе.