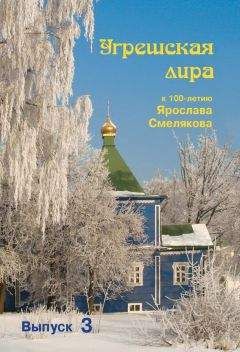и с какой-то истовой провокаторской страстью вдруг спросил меня: — А верите ли вы, Станислав, что рано или поздно в
Успенском соборе возобновятся богослужения?
В ответ я прочитал ему стихотворенье не о возрожденном богослужении, а о неизбежном, как я считал, историческом возмездии всем разрушителям храмов, "нагрянувшим" "из дальнего края"…
Реставрировать церкви не надо,
пусть стоят, как свидетели дней,
как вместилища тары и смрада
в наготе и разрухе своей.
Пусть ветшают. Недаром веками
в средиземноморской стороне
белый мрамор — античные камни —
что ни век возрастает в цене.
Реставрация трупов. Побелка.
Подмалевка ободранных стен.
Совершилась житейская сделка
между взглядами разных систем.
Для чего? Чтоб заезжим туристам
не смущал любознательный взор
в стольном граде иль во поле чистом
обезглавленный темный собор?!
Все равно на просторах раздольных
ни единый из нас не поймет,
что за песню в пустых колокольнях
русский ветер угрюмо поет.
Межиров все сразу понял, резко повернул тему разговора, и я так и не успел напомнить ему его мрачные и по-своему кощунственные стихи о Троице-Сергиевой лавре, описанной им как некое зловещее, почти разбойничье гнездо:
Там в окладах жемчуг крупен,
У монаха лик преступен,
Искажен гримасой рот…
В дымке Троица Святая,
А под ней воронья стая
Раскружилась и орет.
Я понял, о чем он думал в ту минуту — о моем выступлении на дискуссии "Классика и мы", где я отважился вслух сказать не только о любви Осипа Мандельштама к России, но и о революционной ненависти к ней и ее истории поэтов карательно-чекистского склада наподобие Эдуарда Багрицкого. В эту секунду мы как бы прочитали мысли друг друга.
— Станислав! — с неожиданной резкостью, почти с угрозой остановил он меня, по-моему, возле стелы с именами великих революционеров всех времен и народов, что в Александровском саду, — неужели Вы не понимаете, что дело большевиков, как бы о нем сейчас ни думали, великое дело и рано или поздно мир в очередной раз, но обратится к их правде…
Он со страхом понимал, что такие люди, как я, хотят сделать советскую действительность более русской, настолько, насколько это позволит история, и в его глазах мерцала зловещая растерянность. В слово "большевики" он и я вкладывали совершенно разные смыслы.
Вечерело… Тонкая полоса кровавого заката загоралась над Москвой-рекой, над бассейном, пар от которого подымался, словно образуя колышущиеся призрачные очертания храма Христа Спасителя… Мы с Межировым знали, что недавно в бассейне было обнаружено тело поэта Владимира Львова, чьи строки: "Мои друзья расстреляны, мертвы и непокорны, и серыми шинелями затоплены платформы" — в те годы были широко известны в узких кругах. Скорее всего, что ему стало плохо во время плавания, а незаметно утонуть в адском облаке густого пара, смешанного со слепящим светом прожекторов, было легче легкого. Но злые языки распространяли по Москве слухи о том, что это возмездие иудею, чьи соплеменники разрушили храм Христа Спасителя и специально, чтобы надругаться над православными, построили на святом месте гигантскую купель для кощунственного плотского омовения.
Именно в это время Межиров написал мне письмо, в котором предпринял титанические усилия, чтобы не дать мне уйти из-под его влияния:
"Вы знаете, что я не хочу разрыва и душой болею, думая о внутренних изменениях наших отношений. После получения "Рукописи" перечитывал Ваши книги, из которых она составлена. Находил любимые стихи, радовался. Все же заметил и совсем иное: дарственные надписи — от сыновье-влюбленных, до последних, почти надменных, во всяком случае, почти отчужденных. И вдруг подумал, что в наших беседах с некоторых пор часто мелькают эвфемизмы. Хочу написать без них.
Сами по себе слова Достоевского (в одной из бесед я в доказательство своей правоты вспомнил какие-то слова Достоевского. — Ст. К.), конечно, прекрасны и в чьих-то похвалах не нуждаются. Но любой самый средний западник более прав в вопросе о Константинополе и Польше, чем Достоевский, впадающий порой в пошлые стереотипы ("французишки", "жиды"). Истина есть ложь, когда Достоевский начинает говорить от имени народа-Богоносца, то есть… Христа. Существуют свидетельства, что Достоевский ждал конца мира (через десять лет), — значит, не верил в "почвенность". Всякая партия относительно права в борьбе со злом. Страшен дух ненависти в сраженьях за правое дело. Достоевский доходил в борьбе с бесами до бесовщины, до оправдания доноса, до доноса на Тургенева, как Шевцов. И все это там, где Петр разрушил основы понятий о чести, а новые — утверждает Шевцов — из Сергиева города, почти из Лавры. И борьба чистой идеи с "Багрицким " незаметно переходит в ко оперативно-квартирно-автогаражную статистику.
Розанов, Мережковский в конце жизни думали и об этом. "Живите", — говорил Розанов. "Семиты создают религии, арийцы их разрушают. Слово "жид" кощунственно над плотью Господа, ибо плоть его оттуда", — писал Мережковский в сороковые годы. Простите мне, Станислав, это напоминание. Все сказанное известно Вам и так. И писал я только ради надежды на действительное "воссоединение людей", на спасение нашей дружбы.
Ваш А. Межиров. Январь 1978 г."
Письмо написано через месяц после дискуссии "Классика и мы"…
Мне не хочется задним числом подробно рассматривать, где в этом письме передержки, где тонкое лукавство, где нарочитое упрощение Достоевского, Петра Великого, Василия Розанова. Скажу только о том, что странно было читать в письме высокое слово "честь", поскольку все, кто близко знал Межирова в те годы, считали его не просто мистификатором, но изощренным интриганом, светским сплетником и просто лжецом. "Шурик-лгун" — под этим прозвищем он был известен всей литературной Москве — и еврейской и "антисемитской".
Помню, когда я читал упрощенные до идиотизма размышления Межирова о Достоевском, то с горькой улыбкой вспоминал его же рассказ об одном профессоре, который преподавал ему литературу в стенах Литинститута в конце сороковых годов.
"Профессор, когда размышляя о Толстом, время от времени повторял: — Ну, в этом вопросе старикашка заблуждался!
И однажды я на семинаре, набравшись храбрости, — продолжал Межиров, — поднял руку, встал и озадачил профессора: "Объясните нам, как может так случиться, что Толстой заблуждался, а вам, профессор, все на свете ясно?"
Ах, Александр Петрович, Александр Петрович! Как же так, старикашка "Достоевский заблуждался", а вам, средненькому русско-еврейскому поэту, ясны все "заблуждения" гениального русского провидца! И не стыдно?
Письма наши друг к другу в конце 70-х годов с упреками и объяснениями становились все жестче и жестче и, объективно говоря, отражали раскол, окончательно оформлявшийся в русско-еврейских отношениях. В некотором смысле наша переписка затрагивала многое из того, что в середине 80-х вспыхнуло в эпистолярной войне между Виктором Астафьевым и Натаном Эйдельманом.
"Вы за последние годы ничего не поняли и ничему не научились, — писал я Межирову. — Мне жаль книг, подаренных Вам. Я ошибся, говоря о том, что Вы любите русскую поэзию. Это не любовь, скорее ревность или даже зависть. Не набивайтесь ко мне в учителя. Вы всегда в лучшем случае были лишь посредником и маркитантом, предлагающим свои услуги".
Межиров не оставался в долгу. В ответном письме осенью 1980 года он негодовал, осуждал, клялся, становился в благородную позу.
"Станислав! Вы ответили мне злобной площадной руганью. Я не хотел обидеть Вас. Значит, обидела правда. Когда-то Вы подарили мне книги с надписями "с любовью", "одному из немногих близких". Я мог бы вернуть их Вам, но не сделаю этого. Я прожил жизнь и умру в России. На миру да в надежде и смерть красна".
Но судьба не дала ему до конца сыграть непосильную для него роль русского человека. Последние годы его жизни в нашей стране были постыдны, смешны и унизительны. Сначала он чуть не тронулся умом оттого, что от его дочери ушел муж, молодой поэт, которого я хорошо знал. Еврейское чадолюбие Александра Пинхусовича ударило ему в голову, как хмель. Он прибегал ко мне, в Московскую писательскую организацию, где я работал секретарем и где стоял правительственный телефон "вертушка", умоляя меня позвонить начальникам из Спорткомитета СССР, где работал его зять, чтобы те подействовали на молодого человека, дабы он вернулся к постылой жене. Я с брезгливостью выслушивал его, звонил, но, естественно, какой-то из начальников спорта поднял меня на смех.