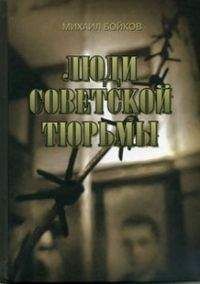Прожив с "Достоевскими" неделю и слушая беспрерывные рассказы и разговоры о фантастических признаниях, вредительствах, террористических актах, шпионских злодеяниях и тому подобной чепухе, пекарь и сам начал "трогаться". Вызванный на допрос не "через пару деньков", как обещал Дрейзин, а на десятые сутки, он без сопротивления дал ложные показания на нескольких потребителей его хлеба из числа работников краевых комитетов ВКП(б), ВЛКСМ и пятигорского городского совета.
С каждым днем мания "признаний" охватывала его помутившийся рассудок все больше и, приходя на допросы, он с увлечением рассказывал и описывал истории своих и чужих несуществующих преступлений, не щадя в них ни себя, ни знакомых, друзей и даже родственников. Сочинение таких историй в кабинете следователя превратилось для него в нечто, вроде увлекательной игры.
Слушая "признающегося "в полубезумии человека, Дрейзин одобрительно кивал головой и приквакивал:
— Так-ак! Отлично, Карл Иваныч! Рассказывайте дальше! Та-ак, та-ак!..
Иногда Фогель до того завирался, что следователь останавливал его:
— Вы слишком перехватили! Так не могло быть, Карл Иваныч…
Перебивая следователя, пекарь горячо доказывал ему:
— Было именно так! Я пошел к резиденту японской разводки, но по дороге встретился с двумя членами тайной террористической организации "Белая рука", готовившей покушение на Ежова. Мы вместе обсудили планы еще трех покушений на руководящих работников НКВД, а потом…
На одном из допросов Дрейзин объявил Фогелю:
— Хватит! Иначе мы с вами та-ак запутаемся в этой фантастике, что никакой суд ее не разберет.
— Суд? Разве меня будут судить? — воскликнул Фогель.
— А вы ка-ак же думаете? — удивился Дрейзин. — Состояли в нескольких тайных антисоветских организациях, завербовали туда больше двухсот человек и хотите выкрутиться без суда. Вот ловкач!
— У меня все в голове перепуталось! Все эти показания, преступления. Но я помню… вы обещали мне работу в пекарне… Пекарню без суда.
— Какую пекарню?
У вас! В НКВД… Вы обещали за чистосердечное признание.
— Ах тогда. Ну, это я та-ак, пошутил…
Рассудок Фогеля пришел в нормальное состояние только в камере "настоящих". Не в силах молча переживать ужас им содеянного и муки совести, он рассказал заключенным всю страшную правду о себе, но никто не посочувствовал ему. Молчаливо, не сговариваясь, камера объявила "Достоевскому" бойкот.
С точки зрения заключенных он совершил тягчайшее преступление: не подвергаясь физическим пыткам, а лишь напуганный и соблазненный следователем, "вербовал" кого попало, подводил сотни невинных людей под пулю и концлагерь. Поэтому-то его и "не замечают" в камере.
Многие из "завербованных" Иоганном Фогелем получили пулю в затылок или долгие сроки заключения в лагерях. Но "сам себе Достоевский" вышел на волю. В начале 1939 года его освободили, как жертву "ежовщины".
9. Атаман "сальских ковбоев"
— Батюшки! Да это гора, а не человек! — громко прошептал Шура Карелин, глядя на только что вошедшего к нам арестанта восхищенными, широко раскрытыми глазами.
Определение Шуры было приблизительно верным. В камеру ввалилась почти гора. Такое впечатление создавалось сразу, при первом же взгляде на этого человека. Нам, сидящим на полу, казалось, что голова его подпирает потолок камеры, а плечи, грудь, руки и ноги у него нечеловечески огромны. Ростом он был выше, а на вид значительно сильнее физически, чем Смышляев, Кравцов, Петька Бычок, Федор Гак и другие силачи, которых до этого я видел в тюрьме.
Лицо его было под стать мощной фигуре: крупное, энергичное, с широкими скулами и тяжелым упрямым подбородком. Тонкий хрящеватый нос с хищной горбинкой, светло-голубые прищуренные глаза и клин рыжеватой бороды, густо посеребренный сединой, указывали на то, что их обладатель происходит от брака русского с кавказской женщиной или кавказца с русской.
Он вошел в камеру тяжелой, неторопливой походкой, непринужденно и уверенно, как в хорошо знакомую ему квартиру, и громыхнул над нашими головами раскатистым, слегка хриплым басом:
— Ну, здравствуйте, господа-граждане арестованные!
Несколько голосов торопливо ответили гиганту, а Пронин шагнул к нему и заговорил с необычайной для "вечного сидельца" почтительностью. Угодливости в голосе нашего старосты не было, но искреннее уважение звучало весьма отчетливо.
— Прошу вас, пройдите сюда. Это лучшее место. Здесь, у окна вам будет хорошо и просторно, — указал Сергей Владимирович на пол возле подоконника, где-мы спали каждый по очереди.
— Зачем же, братка тюремные правила-то ломать? Я и у параши не завоняюсь. Тута новичку самое подходящее место, — пророкотал бас и уселся на полу у двери.
— Какой же вы новичек, Тихон Ефимович? Всем к тюрьме да и на воле многим известны, — улыбаясь возразил староста и еще раз повторил свое предложение:
— устраивайтесь здесь! Под окном! Камера, думаю, не возражает и жилплощади у нас пока-что достаточно..
— Не возражаем! Пожалуйста! Займите место! — одобрительно загудела камера.
— А ежели не возражаете, так можно и пересесть, — согласился гигант, вставая с пола.
— Кто это? — быстро шепнул я Пронину.
Он ответил таким же шепотом:
— Тюремная знаменитость: Тихон Гринь. Не слыхали разве о нем?
Конечно, я слышал о нем. И на воле, и в тюрьме про него пели песни и слагали легенды, в которых было много правды.
Сын терского казака и осетинки, Тихон Ефимович Гриневсков до революции дослужился до чина урядника, а в годы гражданской войны стал известен, как лихой есаул волчьей сотни генерала Шкуро. После победы большевиков и разгрома ими белых армий, Тихон Ефимович отказался эвакуироваться за границу. У него были слишком большие и кровавые счеты с советской властью. Всю его семью, как и семьи многих других "шку-ровцев", чекисты "ликвидировали".
Он и четыре его станичника остались на Северном Кавказе с единственной целью: мстить. Жестоко и беспощадно мстили казаки. Нападая на мелкие отряды чекистов, черноморских моряков и продармейцев, рубили "в капусту" всех, кто попадал под их шашки. Жили "зелеными партизанами" в пещерах ущелий Эльбруса, густо поросших лесными чащами.
За пять лет все четверо станичников Тихона Гриневскова погибли в боях с чекистами и он остался один. Но одиночества в горах человек долго не выдерживает. Жизнь одинокого абрека скоро надоела казаку, да и его жажда личной мести уже была утолена. Зарыв все свое оружие в одной пещере и продав черкесам двух бывших у него лошадей, он спустился с гор и начал бродяжничать по коневодческим совхозам Северного Кавказа; нанимался на работу в совхоз, а через два-три месяца переходил в другой. Для безопасности часто менял свою фамилию.
В одном из совхозов Сальских степей он "зацепился" надолго. Интересные, никогда невиданные им люди встретились ему там. Советская власть выписала в этот совхоз пятерых ковбоев из Техаса, специалистов по обучению верховых лошадей. Американцам поручили тренировать кровных скакунов для кремлевских скаковых конюшен.
Ковбои были веселы, жизнерадостны и беззаботны, смешно болтали на ломаном русском языке, но свое дело знали хорошо, а к работавшим в совхозе казакам и калмыкам относились по-товарищески. С Тихоном Ефимовичем они подружились и очень его уважали, как знатока лошадей, во многом не уступавшего им, а кое в чем даже их превосходившего.
Эту дружбу дирекция совхоза решила использовать в своих "производственных" целях. Однажды директор-коммунист приказал Гриневскову:
— Ты вот что, Тихон Ефимыч. Подбери-ка себе с полдюжины лучших совхозных наездников да с ними подкатись к ковбоям, на предмет использования ихнего опыта. Вызнай все американские секреты тренировки лошадей и добейся, чтоб ковбои обучали наших ребят. Тебе американцы не откажут. Ведь ты им друг-приятель. Провернешь это дельце по-ударному, так и орденок, возможно, отхватишь.
— Ладно! Попрошу американцев. А ордена вашего мне не надобно, — ответил коммунисту казак.
С ковбоями он сговорился, но не совсем так, как этого хотелось директору совхоза. Предложил им коротко и честно:
— Научите шестерых казаков объезжать коней по-американски, а я за то вас выучу нашей казачьей джигитовке.
— О-кэй, — сказали ковбои.
Гриневсков выбрал из работавших в совхозе шестерых молодых терцев и начался у наездников взаимный обмен "лошадиным опытом". Ковбои учили казаков всему, что знали сами; не только объезжать лошадей, но бросать лассо и играть на банджо. Казаки, под руководством Тихона Ефимовича тренировали американцев по джигитовке, метанию аркана и… хоровому пению казачьих песен.
В результате такой учебы казаки и ковбои стали большими друзьями, но американцам очень уж не нравилась жизнь в Советском Союзе и, накануне коллективизации, они собрались ехать на родину. Прощаясь с терцами, они с грубоватой ласковостью похлопывали их по спинам и приглашали вместе ехать в Америку. Казаки хмурились и отрицательно качали головами.