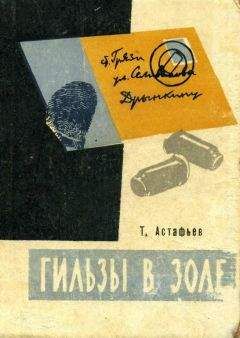— Вы чем-то расстроены, сэр?
Виктор не ответил.
— Узнаешь? — неожиданно спросил Быстров и поднес к лицу Гончарова пайку хлеба и два кусочка сахара. — На, возьми! Они мне не нужны. Просто хотел узнать, хозяин ты слову или нет.
Виктор взял поданное и стал медленно жевать хлеб, прикусывая его с сахаром.
— На-ка вот еще, — Быстров подал ему большой ломоть сыра.
— Где взял? — удивленно спросил Гончаров, разглядывая желтую парафиновую корочку.
Сэр показал на сторожа с ружьем, дремавшего на лавочке у ворот молочного завода. Завод располагался метрах в трехстах от колонии, на бугре.
— Вот у того симпатичного старичка.
— Видно, добрый, — проговорил Виктор, откусывая большой кусок сыра.
— Добрый? Не думаю, — неожиданно услышал он.
— Значит, ты…
Сэр насмешливо посмотрел Гончарову в глаза, улыбнулся в знак согласия, а потом спросил, не хочет ли Гончаров еще.
— Там его, знаешь, сколько.
И опять Виктор подумал, что сыру ему больше не хочется и лезть за ним на завод ему не по душе, однако неизвестно почему, как и в прошлый раз, при игре в карты, вместо этих слов он произнес совсем другие:
— А сторож?
— Я его отвлеку, покурю с ним, а ты в форточку, со двора. Дрейфишь?
Уже в тот раз Гончаров узнал, что попадаются не тогда, когда берут, а когда опасность позади. Сыра он взял две головки. Вернулся Виктор на спортплощадку за полчаса до отбоя.
«Середнячки» (так звали детей 11—13 лет) играли в войну. У качелей стоял мальчик лет одиннадцати и всхлипывал.
— Миша, кто тебя? — спросил Гончаров.
— Они в войну не берут.
— Ну и плюнь. Пойдем.
Виктор и мальчик сели поодаль от всех на скамейку.
— Давай я тебе палку получше обстругаю. Настоящий меч будет.
Миша не отрывал взгляда от ножа, снимавшего тонкую стружку. Виктор поднял глаза, окинул взглядом худенькую фигуру мальчика и вдруг достал из кармана кусок сыра.
— На, ешь. Да никому ни слова.
— Никому-никому, — серьезно ответил Миша.
А утром воспитатель нашел у мальчика под подушкой сыр. Из-за этих двух головок Гончарова задержали в колонии еще на год.
А потом были дом и два года воли — лучшее время его жизни. Он работал в экспериментальном цехе. Детали — легкие, а платили за них хорошо. Только в аванс он приносил больше, чем мать за весь месяц.
Все испортили водка и старые дружки.
Сначала попросили сделать ключи («Тебе на станке ничего не стоит!»). Потом пил с ними и получил долю. И так пошло.
Когда Виктор уже уверился, что ему сопутствует удача, последовал первый арест.
Манипулированию с галантереей его научил один «интеллигентный» жулик в то время, когда Гончаров отбывал первый срок.
— У тебя морда ангела. Природный фармазонщик! — восклицал новый знакомый.
После освобождения они подвизались в крупных городах. Случайное знакомство двух элегантных иностранцев («хау ду ю ду, только вчера из «Интурист») у прилавка ювелирного магазина с русской миссис, несколько комплиментов в ее адрес, затем предложение поговорить «на улица», и жена какого-нибудь завмага становилась обладательницей чудесного перстня из лучшего чешского стекла. Женщина до самого дома была уверена, что ею куплен перстень с бриллиантом в три карата.
Потом жизнь пошла, как нелепо склеенные кадры киноленты. Аресты были тяжелы, но Гончаров был к ним подготовлен и нового положения не страшился. Несчастье причиняло ему боль, но он понимал неизбежность того, что случалось. На постоянную удачу он не рассчитывал. Кто бегает по льду, тот может поскользнуться.
Но позднее, окидывая взглядом прожитое, он понял, что жизнь его состояла из одних падений. Ими он был сыт по горло.
За Клепикову Виктор готов был люто возненавидеть себя, если бы имел силы сделать это. Он вполне мог бы прожить еще месяц на иждивении матери. Но деньги Клепиковой пришли почти сами, и он не оттолкнул их.
Тяжелее ожидаемого суда было сознание, что обо всем знает мать, что она придет на суд, что в зале за ее спиной будут шептаться, а она будет сидеть, безучастная и прямая, с сухими глазами и почерневшим лицом, будет глядеть сзади на его стриженый затылок. Будет глядеть и думать. В возможность освободиться он не верил. И все-таки надежда теплилась. С самого завтрака он не присел. Ходил по камере. До обеда его не вызвали, и он упал духом.
В радиоузле прокручивали пластинки. Репродуктор-колокол, укрепленный на столбе посередине двора, разносил танцевальные мелодии и вздорные песни. Хотелось заткнуть уши. Но в обед, перед кашей, в камеру долетел голос, который заставил сердце Гончарова дрогнуть.
Голос мягко, словно в недоумении, спрашивал, куда удалились золотые дни молодости, и, казалось, сам отвечал: «А важно ли знать, куда удалились они, если эти прекрасные дни ушли безвозвратно?» Тоской, болью утраты, неизъяснимой печалью пахнуло в душу. А голос певца, углубляемый и повторяемый оркестром, уже спрашивал, что готовит ему грядущий день. И печаль в сердце нарастала. И мнилось, что будущее затянуто мглою, что он готов принять и тяжкие заботы жизни и тьму небытия, ибо ему недостает самого главного, неповторимого, давно утраченного — юности, непорочности, чистоты…
После обеда его вызвал надзиратель и привел в один из кабинетов следственного коридора.
Здесь Виктора ждали следователь и районный прокурор.
Приход прокурора был исключительным событием, и Гончаровым овладело непроизвольное волнение.
— Присаживайтесь, Гончаров.
Виктор сел на стул, намертво прикрепленный к полу. Сердце его стучало.
— Я пришел не для очередного допроса, — сказал прокурор. — Я хочу узнать о вас побольше.
Разговор вначале не клеился. Виктор не испытывал желания лезть глубоко в прошлое и рассказывал о себе неохотно и скупо. И все-таки Гончарова не покидало ощущение, что пожилой человек, внешностью мало напоминавший прокурора, угадывал за его словами больше того, что Виктору хотелось сказать.
Постепенно Гончаров притерпелся к собеседнику и стал откровеннее. К концу беседы он уже ничего не таил. Минуту или две Виктор молчал лишь перед тем, как наступила очередь рассказать об истории с перстнем, проданным жене подполковника Клепикова.
Какое-то чувство, которого Виктор сам не мог объяснить, заставило его отбросить сомнения.
— А у вас не возникало желания расплатиться с потерпевшей? — спросил прокурор, встав из-за стола и подойдя к окну.
— С потерпевшей?
Гончаров смущенно обнажил золото зубов.
— Честно сказать: нет. Да и денег этих мне уже не собрать. Но если она согласится взять перстень, не тот, за три рубля, а другой… она его сразу узнает, то я отдам его. Фарта он мне не принес. Он — дома. Я нарисую — по бумажке найдете. Только старуху мою не пугайте. Скажите ей, что на шее у нее сидеть стыдился. Не хотелось, чтобы из-за меня за рублевками по соседям бегала.
…Гончарова решили освободить, как только будут отрегулированы его отношения с потерпевшей. Он написал записку матери. На листе была схема с крестиком, который указывал, где спрятан перстень. Мать нашла его и отнесла Клепиковой. Эльвира Капитоновна пришла в прокуратуру вместе с мужем, подполковником, радостная и сияющая. Они оставили заявление, в котором просили прекратить дело.
— Влепят нам с тобой за этого жулика, — вздыхал прокурор, подписывая постановление. — Втянул ты меня в благотворительность. Что ж, теперь трудоустраивай его. Да объясни, что к чему и на каких условиях…
Виктора вызвали на следующий день. Утром.
Когда надзиратель крикнул: «Гончаров, с вещами!», — Виктор понял: это домой.
Процедура была недолгой. В комнате дежурного он прочитал постановление, расписался против слова «объявлено», и через минуту за его спиной захлопнулась тяжелая, окованная железом дверь корпуса.
Солдата за спиной не было.
Белые, опушенные хрупким сказочным инеем тополя стояли строго и настороженно, словно ожидая, куда направит свои шаги человек, чья первая дорога в жизни была сюда, в этот двор. Но вместе с сухим морозным воздухом в грудь Гончарова проникало ощущение свободы и открытости для всех радостей, для чего-то нового, непохожего на прежнее, чрезвычайно интересного значительного, открылось неожиданно, в тот самый момент, когда он потерял веру в его приход.
Пройдя последнюю будку, он оказался на улице.
На мгновение он остановился, чтобы ощутить себя в новом времени и пространстве. Когда сердце перестало учащенно биться, он бросил последний взгляд на белые от инея тополя за воротами и зашагал прочь.
Деревообделочный завод получил распоряжение треста вывезти сорок тысяч кубометров круглого леса из Чепецкого сплавного рейда Кировской области: срывалась сдача в эксплуатацию жилых домов. Сняли, откуда могли, девять автокранов, два трактора, два бульдозера, тридцать автомашин и перебросили эту технику на станцию Зуевка Кировской области. Люди, нанятые в селах по договору, выехали туда еще раньше. Но за два месяца из лесопункта пришла только десятая часть ожидаемой древесины. Разобраться с положением дел на лесопункте послали начальника транспортного цеха деревообделочного завода Букреева, наделив его широкими полномочиями. Вместе с ним к месту работы ехал новый экспедитор Гончаров, одетый в рабочее, но с неуловимой щеголеватостью: расстегнутый ватник открывал накрахмаленный воротничок с синим, в тон фуфайке, галстуком. Незнакомый человек, который, как слышал Гончаров, поручился за него, не лез ему в душу. За окном бежали поля с пухлым снежным покровом. «А если мне станет скучновато в лесу?» — думал с усмешкой Виктор. И сам испугался этой мысли.