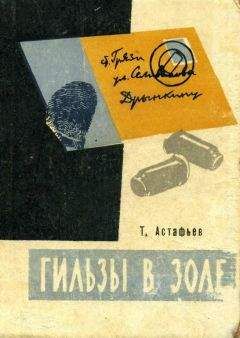— Встретились они аккурат у скамейки напротив сберкассы, — рассказывал милиционер. — Дамочка, як квочка, до него подступает. Побачим, думаю, что оно будет. А без меня вам зараз не обойтись. Через минуту молодой человек ко мне направляется, да так швыдко, что дамочка за ним еле поспевает. «Товарищ старший сержант, — говорит, — требую писать протокол. Оскорбления, — говорит, — не потерплю». А дамочка кричит: «Такие могут жизнь неинтересной сделать, всего скарба лишить!»
На допросе Валуйский объяснил, что он постоянно проживает в Москве и случай с Клепиковой считает недоразумением. Если бы не желание в промежутке между поездами окинуть взглядом незнакомый город, то он, по-видимому, не имел бы чести знать жену подполковника. По утверждению Валуйского, потерпевшая просто обозналась. Он просил поскорее разобраться с ее жалобой и дать ему возможность продолжать дорогу на юг, к месту отдыха.
У задержанного взяли отпечатки пальцев и решили проверить их по справочной картотеке, чтобы установить, не судим ли он в прошлом, В справке, принесенной оперуполномоченным, говорилось, что Валуйский девять лет назад был осужден под фамилией Гончаров за квартирную кражу. Запросили адресный стол. Выяснилось, что Гончаров Виктор Иванович проживал до ареста по ул. Кольцовской, 54, в доме завода «Воронежсельмаш».
Туда послали машину. Лейтенант установил, что в доме № 54 проживает мать задержанного, Анна Никитична Гончарова, к которой сын приехал месяц назад после многолетнего отсутствия.
Фамилия Валуйский оказалась вымышленной.
В девять утра Гончарова Анна Никитична уже была в коридоре. Она сидела на стуле, положив на колени большую, вышедшую лет пятнадцать назад из моды сумку, извлеченную на свет по случаю выхода в город. Она держала ее натруженными, в синих жилах руками. В комнату вошла спокойно и неторопливо, словно все вопросы ею были давно решены. Села на стул. Сумку поставила сбоку на пол. Я попросил ее рассказать о детстве сына. Говорила она ровным, без выражения, голосом, словно о ком-то чужом.
Жили в Курской области, работали в колхозе. Началась война. Мужа взяли на фронт, а она осталась с четырьмя детьми. Виктор самый маленький. Пришли немцы. Дом спалили: стоял близко к лесу, боялись партизан. Жила у соседей в сарае. Когда деревню освободили, приехала в город. Есть и тут было нечего. Жить тоже негде. Одни развалины и баррикады. Троих отдала в детдом, Виктора оставила. Поступила на завод. А какой это завод? Взорванные цеха, погнутое железо и куски бетона с концами арматуры. Дали койку в общежитии и карточку хлебную.
— Иду на работу, и мальчишка со мной. Пока носилки таскаешь, он по двору бегает, гайки собирает. А то ляжет на кучу теплого шлака и лежит. Раз чуть не сгорел. Не хотелось отдавать в детдом, как от сердца отрывала, а пришлось. Пропал бы. Когда исполнилось восемь лет, взяла. Остальные дети уже подросли. Кто в ремесленное, кто в ФЗО. На руках один он остался. Я на работе, а он уйдет, бывало, из общежития, ходит по пивнушкам. Там голову от селедки дадут, там корку, там копейку. Принесет домой, сердце кровью обливается. Да не ходи же ты, говорю. Потерпи. А как терпеть? Маленький. Скоро дали нам с ним бытовку. Кладовка до войны была. Два на три с окном. Полегчало немного. Да и Виктор подрос. Приходит раз и говорит: «Был в Ботаническом, большие ребята в кустах водку пили, дали мне колбасы, бутылки пустые и вот…» И показывает пятерку. Сжалось сердце. Не иначе, думаю, воры какие-нибудь. Рабочий человек пятерку не даст. Да и не до пьянки ему днем. Не ходи, говорю, ты туда, сыночек. Нехорошие это люди. Промолчал он. Квартирники это были. Стали его с собою брать. Где пролезть не могут, его посылают. И плакала, и била, и умоляла, и в милицию водила. Отправляйте, говорят, в детскую колонию. А каково мне? Только четырнадцать ему — и в колонию. Собрала я бумаги: метрику, справки разные, табель школьный, несу участковому, а сама плачу. Плачу, а несу. Пробыл он там до шестнадцати лет, приехал, тут я его на завод, учеником. Года два вроде ничего. Приоделись мы тут, кое-что в дом купили, старшие дети пособили. А потом опять все сначала. Опять Ботанический. Пьяный стал приходить, получку не стал отдавать. Грубый какой-то сделался и вроде психа. Бояться я начала его. Примешься ругать его, а он как глянет, так и язык прикусишь. Поплачешь-поплачешь, да останешься при этом. Посадили его. В дом они залезли. Три года дали. Ездила к нему в колонию, просила его чуть не на коленях. «Ну, Витя, ну, миленький, пожалей ты меня, слушайся начальников, учись, работай хорошо. Тебе и срок скостят, и человеком ты будешь». И как все хорошо пошло. Стал он учиться. Все над ним смеются, блатные эти. Директором, говорят, будешь. Будут на тебе бочки возить. А он не слушает, после своих часов в школу идет. Окончил девять классов. Учительница ему там молоденькая понравилась. Мастер его стал хвалить, разряд хороший дал. Книги полюбил. Освободили его досрочно. Ну, думаю, все хорошо. Да разве поймешь, что у него внутри? От одной болячки вылечился, а другой заболел. От воров отошел, а к другим подался. По городам разным стал ездить, одежу не по уму одел. Все глаза я выплакала. А потом и совсем пропал. И вот объявился недавно. Всего месяц пожил… — Женщина вытащила из неуклюжей сумки носовой платок.
Виктору навсегда запомнился второй день пребывания в детской колонии. Записывали в хоровой кружок. В просторном актовом зале, наполненном весенним светом, в углу за роялем сидел моложавый мужчина, удивительно чистый и новый, словно снятый с полки магазина. Такого отутюженного и нарядного человека Виктор еще никогда не видел. В ожидании очереди мальчику поневоле приходилось слушать всех, кого вызывали. У многих были хорошие голоса, но мужчина за роялем слушал их, не оборачиваясь. Виктор любил петь. И в классной самодеятельности, и на школьном смотре его отмечали. Сейчас, глядя на музыканта, мальчик вдруг понял, какими пустяковыми были его прежние успехи. И ему до боли захотелось спеть так, чтобы новый учитель непременно обернулся.
Наконец, Виктор занял место у стула, за спиной учителя. Как только белые сухие пальцы поднялись над клавишами, Виктор неслышно, словно исподволь, вдохнул через нос и запер в груди воздух, на мгновение затаил дыхание и вслед за учителем стал брать одну ноту за другой, начиная с нижнего «до».
— А-а-а-а-а-а-а-а-а, — звенели они ровными ручейками в тишине зала.
Фортепьяно забирало вверх, но Виктор чувствовал, что пройдет на одном дыхании всю вторую октаву.
— А-а-а-а-а-а-а-а, — лилось все выше и выше. Вот уже пройдена вторая октава. Еще нота, и еще одна, другая. Крайние верхние уже утратили певучесть и звучали, как флейта. Фортепьяно смолкло. Голова учителя дрогнула и повернулась. На мальчика глядели недоверчивые глаза.
— Недурно, молодой человек, недурно. А теперь исполните что-нибудь со словами. Ведь вы, конечно, знаете немало песен?
С этого момента мальчик стал любимцем Петра Леонидовича. Однажды рыжий Шмелев, коновод и заводила (он жил с Гончаровым в одной палате), сказал Виктору:
— Напрасно ты, Гончаров, пятачок задираешь. Петр Леонидович в другой город уезжает, заявление подал. Придется тебе одному тянуть «а-а-а-а-а», до «бэ» не дойдешь.
В сердце Виктора закралась тревога, но вида он не подал и до ответа Шмелеву не снизошел.
— С таким, как ты, Шмель, он не желает разговаривать, — заметил один из ребят.
— Почему это?
— Ты не той масти, — сказал вдруг Гончаров.
— Какой это я масти?
— Вон, — показал Виктор на окно. — Рыжей, на какой воду возят.
Рыжая кляча с грязной свалявшейся на лодыжках шерстью, медленно переставляя ноги, тащила по двору повозку с укрепленной на ней бочкой. На облучке сидел дед Матвей, истопник колонии.
Громче всех смеялся Гончаров. Но он не заметил, как лицо Шмеля сделалось красным, губы сжались, глаза сузились, и внезапно лицо Виктора загорелось от удара. В следующий миг Гончаров оказался на полу, а Шмель сидел на Гончарове и, часто дыша, выговаривал:
— Учись и рыжих возить!
В груди Гончарова кипело бешенство. Задыхаясь от гнева, он сунул свободную руку в карман, выхватил перочинный ножик, и не успели товарищи крикнуть Шмелю «Берегись!», как Виктор пырнул им Шмеля снизу, правда, несильно, чтобы тот только выпустил. Шмель вскрикнул и схватился за бок. Виктор вскочил и скрылся за углом коридора. Если бы не Шмель, принявший у директора на себя вину, Гончарову бы не поздоровилось.
Певца из Виктора не вышло. Голос он испортил выпивками. Но артистом в известном смысле он все-таки сделался.
— А вчера я видел Степана Шмелева у здания совнархоза. Он выходил из машины с папкой в руке.
— И вы не остановили его? — спросил я, выслушав рассказ Гончарова.
— Зачем? Чтобы с преувеличенной радостью трясти его руку, а потом услышать массу неприятных вопросов и вынуждать себя разыгрывать комедию с какой-нибудь вымышленной ролью? Чтобы притворяться живым, когда ты мертв? Поверьте, в таких случаях не пылаешь желанием начать разговор. Признаться, я не в восторге и от беседы с вами о моем деле. Спросите, почему?.. Вы станете горячо убеждать меня в том, что я должен рассказать правду, напомните, что за чистосердечное признание суд дает меньше. А я не захочу получать меньше и буду запираться. Вы рассердитесь и наговорите мне массу неприятных вещей. Не забудете, конечно, напомнить, что я закоренелый преступник-рецидивист. Я обижусь и откажусь давать показания, Вы пригласите надзирателя и составите акт, а возвращаясь в прокуратуру, с неприязнью будете вспоминать обо мне. Потом все пойдет своим чередом. Вы будете подбирать ко мне отмычки и преуспеете в этом. Я получу срок, отбуду его и возвращусь на старую тропку, как говорят, на старую Калужскую, а вы снова будете ждать случая упрятать меня. Видите вон те тополя? Когда меня первый раз посадили, они были мне до плеча, а теперь до самой крыши вымахали. Сержант-коридорный капитаном стал и поседел, а у меня все по-прежнему.