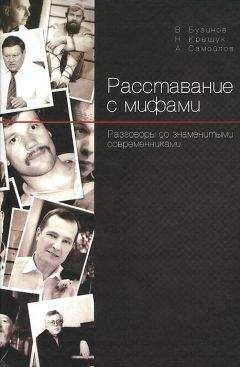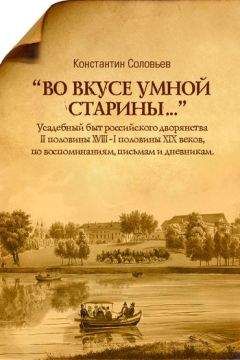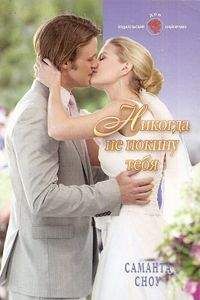Счастливые годы ТЮЗа
– Значит, все-таки были в детстве и юности моменты, которые могли привести к долговременно развивающимся обидам. Отношения со сверстниками – это очень серьезно. Всякий подросток мечтает вписаться в свою компанию.
Отношения с отцом. Необидчивость – это свойство вашего характера или же это как-то философски развивалось, разматывалось, переживалось в течение жизни и явилось следствием сознательного выбора?
– Нет, нет! Меня много обижали. Обидели, когда отняли театр. Облыжно, жестоко и без оснований обидели те, кому я служил, с кем был по-человечески и творчески близок. Но во мне нет зла. Я помню все, что со мной было, особенно когда я был маленький или когда был подростком, юношей. Дальше все немного меркнет и, приближаясь к сегодняшним дням, почти угасает. Но одно, несомненно, ты угадал: так сконструирована душа, что она не хранит обиды.
Хотя, в сущности, я всегда был изгоем. Это сквозная тема жизни и сквозная тема творчества. Речь не о национальном, а о нравственном, духовном, типологическом изгойстве. Всю жизнь во всем, что делал, смеясь и веселясь, я эту тему сохранял.
Я и сейчас – маргинал. Несмотря на все звания и регалии, я все равно сбоку. Никак не могу попасть в парадный фарватер всеми признанного и почитаемого государством искусства.
А счастливые годы, 25 лет почти, ТЮЗа… Это все было бурно, ярко. Но я к этому относился спокойно. У меня не было чувства победы, торжества. Я удивлен, насколько я оказался глух к некоторым словам. Многого не увидел и не расслышал за звуком фанфар. И много наделал глупостей, не желая что-то преувеличивать.
Но изгойство было и тогда, как было оно в детстве, когда меня дразнили и не принимали в компанию, заставляли замыкаться, уходить в собственные фантазии, игры.
Цирк. Это потом аукнулось, когда я сделал спектакль «Наш цирк». Потом был спектакль «Радуга зимой». Это отозвалась моя церковь, мое пристрастие к паперти, ритуалу, когда ты стоишь вместе со старичками, взрослыми, исповедующими какую-то религию. Я ведь ничего не исповедовал. Мне нравился ритуал, нравился этот театр. Я не называл это театром. Но мне нравилось все, что происходило вокруг, все мизансцены, правила, которые я не мог расшифровать. Я не знал, как называется та или иная театральная (церковная) процедура. Но причастие: выстоять в очереди, подойти к батюшке… А если это еще был архимандрит!..
Я хотел был архимандритом. Почему-то мне это казалось высшим достижением судьбы. А потом выпить волшебного напитка из золотой ложечки… Потом я узнал, что это кагор, тогда мне казалось, что это кровь и слезы распятого Христа.
Все это было роскошно. Мне не нужны были приятели и дружки, чтобы получать удовольствие в одиночестве от тех вещей, которые я переживал: в церкви, на базаре среди цыган (мне нравилось, как они гадают, врут, как они одеты, независимы от предрассудков – это какое-то племя, не подчиненное никому и не желающее уступать своей самости).
– А «Трень-брень» по пьесе Радия Погодина? Тема рыжего.
– О, это же история про меня! «Абраша, Абраша, где твой папаша?» Я должен был сказать: «Мой папаша на мамаше делает нового Абрашу». Я этого, естественно, не говорил, меня били, я убегал, бежал к родне, родня тут же толпой вываливала на улицу. Тем более что родня у меня не чистокровная, путаная, перемешанная.
Хорошая у меня была семья: непутевая, шальная, пьющая… Вот, например, возникала драка – до топора. Но стоило бабушке (маленькой, субтильной, хрупкой – ей тогда было около с орока, но она все равно была для меня древнейшей) вмешаться, как эти ее амбалы-сыновья немедленно затихали, падали ниц, просили прощенье. Она уходила на кухню, обиженная. А кухня была роскошной. Потому что хлеб пекли сами, котел был вмазан в плиту, а там полати на печи, где висят чеснок, лук, валенки, всякая утварь.
– И вот Вы в Ленинграде, поступили в театральный институт, наконец-то, попали в свою среду…
– Я попал не в свою, я попал в альтернативную среду. Это все были ленинградцы из интеллигентных семей. За каждым тянулся шлейф каких-то художественно-интеллектуальных представлений и знаний. Я в телогрейке, в валенках с калошами, в ушанке… Вместе со мной учился, например, Игорь Петрович Владимиров – уже тогда барин. А я опять сбоку, опять изгой.
– Что же вам помогло в таком случае вообще поступить в институт?
– Только доброта и доверие Бориса Вульфовича Зона, моего профессора. Я это доверие не могу разгадать до сих пор. Не было никаких оснований принимать меня: картавый, кривоногий, не насыщенный никакими знаниями. Любовью к театру – да! Может быть, это перекрывало все остальные недостатки? А может быть, ему напели про меня мои сибирские друзья, с которыми я познакомился в театральной библиотеке и вместе проводил время в их общежитии.
Это тоже был театр. Там и спанье, и еда, которая варилась и жарилась на примусах, игры, пенье под гитару, и все это еще на фоне какой-нибудь лекции. Я смотрел на всех, как на будущих Ладынину, Орлову и Абрикосова, будущих звезд. Подтекст этой жизни мне был не знаком.
Вообще с раннего моего детства я не знал уродливого с оциального подтекста. В социальном смысле я очень поздно прозрел. Может быть, только в пору насилия надо мной, когда меня отлучали от театра. А так я был «совок»: пионерско-комсомольский, искренний, самоотверженный. Но эта само отверженность была необходима делу, которому я служил: театр надо было сплачивать, защищать. Все это получилось благодаря моей фанатической преданности времени.
Притом, слава Богу, что из-за небанальной жизни до театра, может быть, я не попал в дурной фарватер обслуживания Советской власти. Меня и тогда защищали церковь, цыгане и цирк.
– Между окончанием института и счастливым временем ТЮЗа много прошло лет.
– Я ведь был членом комсомольского бюро и на распределении должен был показать пример, то есть уехать работать в провинцию. Мы с женой, с которой счастливо живем до сих пор, выбрали Калугу. Все же ближе к Москве, можно в случае чего съездить и пожаловаться.
– Потому что наверху правда и справедливость есть?
– Ну, конечно! В Калуге я проработал пять лет. Потом мне предложили должность главного режиссера театра в Калининграде. Это было счастливое и плодотворное время. Слух об мне прошел по всей Руси великой и дошел до Товстоногова. В итоге, преодолев сопротивление властей, он вытащил меня в Большой Драматический Театр.
Отношения с Георгием Александровичем долгое время сохранялись замечательные, близкие, родственные, дружеские. Нарушились они по моей вине. Я совершил идиотский, детский поступок.
Я уже в это время был в ТЮЗе, куда меня благословил тот же Товстоногов (без его помощи мне бы этого театра было не видать). И вот на каком-то семинаре, который я вел, на вопрос, как я отношусь к методике Товстоногова, я ответил, что Георгию Александровичу методика не нужна, что это автократическая режиссура и что-то еще в этом роде. По существу, сказал правду, но не в тех обстоятельствах. Не должен я был этого говорить о друге и творческом родителе. Это выглядело предательством.
Вся кампания против меня началась после этого. До этого я был защищен Георгием Александровичем Товстоноговым, а теперь – нет. Меня стали ругать: спектакли плохие, со сцены ушел герой типа Павки Корчагина. Теперь уже старались угодить разгневанному Товстоногову. Я перестал быть таким-сяким в лучшем смысле и стал таким-сяким в худшем смысле. И еще – подполье… С момента моего появления в театре подполье же сохранялось, продолжало работать. И вот, воспользовавшись этой напряженной ситуацией, совершили мерзейший подлог.
В Обком меня вызывали через день. У них было какое-то другое представление о театре, не как о театре детства, юности, то есть театре людей, а как о каком-то функциональном, пионерском театре, что ли. Меня упрекали в том, что я театр овзросляю, эстетизирую. Хотя театр имел огромный успех не только дома, но и во всей России, и за рубежом, но меня продолжали ломать. До конфликта с Георгием Александровичем этого не было.
А потом инсценировали изнасилование. Это было настолько ни с чем не сообразно. В роли жертвы легче было представить меня, нежели наоборот. Это был повод для немедленного изгнания ото всюду и снятия всех званий. При Романове меня учили, как руководить театром, а эта инсценировка произошла уже при Соловьеве. За меня попытался заступиться Кирилл Лавров, но там было уже все решено, и человек уже на мое место выбран, который потом в течение 10 лет курочил театр и в конце концов по существу истребил его. Я до сих пор не могу войти в этот дом, которому отдал лучшие годы жизни. Не знаю, кто это сделал персонально или какая группа в этом участвовала, но у меня все равно осталось ощущение, что меня отдали, предали свои.