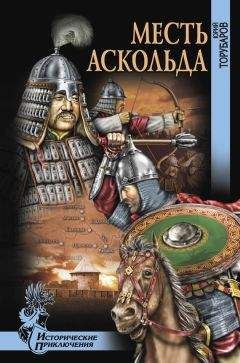— Андрюха, — голос того же матросика у трапа, — ты там не охмуряй индианок…
Черт побери, совсем развольничался — молодой!
Да вот они и сами — гости наши. Четыре женщины в сари, три из них обвешаны голозадыми ребятишками-детишками, два моложавых индуса в цветастых рубахах на выпуск. И Андрей среди них — всем свои чернобровым и черноусым обличьем вполне сходит за индуса. Но куда денешь говорок — мягкий славянский басок с украинскими, чуть заметными, интонациями…
Ах, как расстилается он перед одной, не обвешанной детишками, статной, хоть и чуток полноватой, но без излишеств, красивой индианкой!
— Андрей, как успехи? — кричу я парню.
— А вот выяснил: из дальней деревни приехали, чтоб посмотреть русский пароход.
— Ишь ты! Всё так и понял?
Гости вежливо топчутся возле Андрюхи, застенчиво улыбаются. Ох уж эти вечные индийские улыбки! Затем неловко оступаясь в своих легких сандалиях, взбираются крутым трапом ко мне. Что ж! Как-то и мне надо проявить себя, оказать внимание гостям.
— Попробуйте вдарить! — подаю кий индусу, — А ну, попробуйте!
Как мотыгу, как топорище, берет он кий и под вежливые улыбки спутников делает неумелый удар.
— О’кей! Ничего! О’кей!
Андрюха глазами так прямо и источает мед на красавицу индианку, и робость, черт побери, в нем откуда-то взялась, и движения плавные, замедленные… Эх, Андрюха!
И она — я вижу! — понимает, ах, все понимает: взгляд этого русского нечто большее, чем любование её красотой, — томление, внезапно возникший любовный трепет и — несбыточность, тщета, сожаление…
Да и сам я — в каком-то облаке очарования!
И она, ободренная столь явным, пусть робким| поклонением, веселей и смелей посматривает на нас обоих. Да, и мой восхищенный взгляд замечен, — и отмечен этой здоровой — кровь с молоком — деревенской красавицей.
— Васильич, сфотографируй нас всех вместе! протягивает мне Андрей свой «Зенит».
И потом, на фотографии, будет веселый и гордый взор женщины, её глаза (по глубоким и жарким зрачкам которых навожу я резкость объектива), а рядом — глаза Андрея и что-то в них такое; запечатлится и увековечится сейчас, чему, наверное, сам Андрей будет дивиться через много лет, глядя на снимок, и вспоминать с душевным трепетом, одному ему ведомым.
— Ну вот! — вздыхает Андрюха. И все молчат. Неловкая пауза, освещенная вежливыми улыбками. Мужчины-индусы скромно косятся на поджаренные на солнце телеса нашей буфетчицы Ларисы и робко идут к трапу. Андрюха вихрем скатывается вниз, страхует спускающихся по ступенькам женщин. Опять улыбки, взгляды и — удивительно! — ни одного писка прильнувших к мамашам малышей…
— Что? — говорю Андрею, когда гости сходят на берег и всей цветной и улыбающейся компанией исчезают за ближними пальмами. — Никак влюбился?
— Кажется, да! — легко, с неожиданным откровением кивает кучерявой головой парень.
— Да ты что?!
— А вот тебе — и что!
— Ну и как теперь…
— Не знаю… Ну вот не знаю! — и загорелое лицо парня светится изнутри грустноватым и возвышенным светом…
И вот теперь, среди русских снегов, в теплой городской квартире, вглядываюсь в карточку, подаренную Андреем, и спрашиваю себя: зачем эта женщина пришла в твою память? И не такая уж она и красавица, судя по этому любительскому фото. Да, встречались ярче и блистательней на индийских перекрестках — раджкапуровские звезды из бледнолицых и высших каст.
Но не было таких вот глаз, такого пристального, горделивого и понимающего взгляда… Даже имени её не знаю, но представить хочу — индииская деревня, жара, пальмы со звенящими кокосовыми плодами, она — прямая и статная, не идет, а проходит, как царица, неся на мягком плече кувшин с родниковой водой, или хлопочет у очага, или обихаживает детишек, или…
Не знаю. Не знаю.
Зачем я думаю о ней? Разве не о ком думать на своей земле?! А, впрочем, не такая уж тут сложная философия: среди распада и жизненных печалей, закравшегося в душу неверия в справедливое устройство мира вдруг пронзительно и остро возникает потребность в красоте, может быть, и придуманной тобой, но пронзившей однажды душу теплым хорошим светом, как наша лесостепная августовская зарница…
Ничего не случилось тогда в Кочине. Не было продолжения. Просто был горячий, жаркий денек, был Кочин-порт, судовой электрик Андрей, внезапно воспылавший любовью к чужой индийской женщине. Были её глаза, все понимающий взгляд.
И мне хорошо сейчас от этого взгляда. И легче.
— Опять про сенокосы?! — дряблая, розоватая кожа на его лысом черепе собирается в гармошку, в глазах наигранное удивление и плохо скрытая ирония. Он поднимается из-за стола, оставив початый фужер вина и девицу, небрежно пускающую дым из алого рта.
— Ну, спасибо, старик! — картавит он и преувеличенно бодро трясет мою руку. — Обязательно прочту, старик…
Ресторан гудит, отлаженно, с достоинством снуют между столиков зоркие официанты. И дым сигаретный величественно поднимается к дубовым сводам высокого потолка, к резным балкончикам и витражам готических окон. Тепло и уютно. А мне одиноко: каждый занят собой, приятельской беседой, разгоряченной напитками и острыми блюдами. Говорят об успехах, о славе… Но и у меня должна быть радость: в Москве вышла книжка, скромный такой по объёму томик. Я купил его в Доме книги на Новом Арбате. Зашел в этот ресторан литературного клуба, а знакомых — только вот этот тощий и бодрящийся возле молодой, но подержанной девицы человечек, с которым как-то свела судьба в совместной поездке на северный литературный праздник.
«Опять про сенокосы!» Мне, конечно, понятна незамысловатая ирония знакомца, его антипочвеннический настрой и едва прикрытая ирония. Разговаривать, снисходить до широкого общения он не собирается: ну, ездили…
Да, черт с вами, со всеми! — решаю я наконец, подхожу к стойке бара, выпиваю стакан сухого и выхожу в серую московскую вьюгу.
Зябкий, сумеречный, еще не поздний час. Тщетно кручу телефоны-автоматы в надежде пообщаться хоть с кем-то из однокашников по институту, осевших каким-то способом в Москве, пустив слабенькие, неуверенные побеги сквозь твердокаменный столичный асфальт. Мне пришло на ум — такое вот практическое! — как-то с запозданием, когда с легкой грустью покинул столицу и потерял временные студенческие возможности. И опять я оказался в своих лесостепных, солончаковых да разнотравных весях,
— Гав-гав! Приветствую тебя! — кидался ко мне широкогрудый, разомлевший на жаре, пес Тарзан. Пахло коровьей стайкой и подсыхающими на проволоке, растянутой поперек двора, распластанными карасями, озерной водой, огородом. Я знал, что опять я — ненадолго в гости, мать, охая, бегала из кути в сени — приехал! — семеня и запинаясь в своих «дворовых» калошах, собирала на стол.
Приходил со двора отец, улыбался глазами, подавал левую, не перебитую на войне, руку. Знакомо притаскивался сосед Павел Андреев, в рыжей щетине, в валенках среди лета, приносил старинный, неистребимый запах моршанской махры, устраивался на крышке голбчика, потом сползал на доски пола, до боли знакомо вертел свою «оглоблю», сладко пыхал и спрашивал:
— Однако, САМОГО-ТО там, в Москве, видел?
И я фальшиво кивал. А потом за разговорами, за куревом, за кудахтаньем кур во дворе и звоном подойника, невидимыми вроде бы хлопотами родителей, от которых они старательно ограждали меня по случаю приезда и «устатка с дороги», подкрадывался долгий июльский вечер с народившейся за дальним лесом луной и спелыми звездами. Острей пахло отсыревшей травой возле ограды, и огородные запахи ботвы поднимались вместе с исходящим от земли теплом в звенящее мошкарой небо. Я всматривался в вечерние сумерки, ловя душой и сердцем эти простые, до осязания памятные, звуки, вспоминал скрип мельничных крыл, что махали вон там, на взгорке, пугливый голос не слышной нынче перепёлки, веселый стук фургонных колес о сухую прикатанную дорогу, когда возвращались с совхозного луга звенья стогометчиков.
Ах, сенокосы! Поэзия моей сельской колыбели, сладкая пора малиновых утренних зорь, огуречная свежесть прохладной росы, незамутненная ясность распахнутого детского взора и великая вера в справедливое устройство мира… На все четыре стороны — полевые дороги, чистый свет родниковых небес и посреди этого пространства — наш старый дом под дерновой крышей, двор с курами и воробьями, с телегой и чугунком колесной мази у забора, так остро и дурманно пахнущий по утрам.
Вот отец выносит из сарая литовки, чуть тронутые ржавчиной, обтирает их смоченной в керосине тряпочкой, а затем уж неловко, со сбоями, раненой рукой стучит молоточком по их податливому, упругому полотну. Тук-тук-тук — откликается в других подворьях. И вся округа, весь раннеутренний восторг предстоящего дня исходит на монотонные, но такие сладостные для крестьянского сердца, железные, дробные звуки.