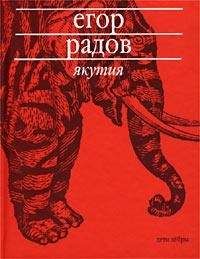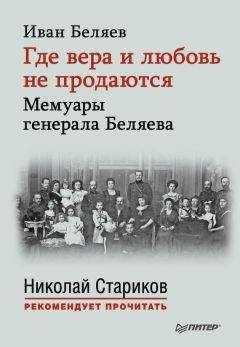Ознакомительная версия.
Ничего, что могло бы его реабилитировать, Строд сочинить не сумел, если даже и пытался. Муза, водившая его пером, когда он писал «В якутской тайге», покинула его вместе с верой в справедливость нового строя и вдохновляющим сознанием собственной избранности. Какие-то рукописи конфисковали у него при следующем аресте, но поскольку на допросах они не фигурировали, и сам он никогда о них не упоминал, это, скорее всего, были черновики его прежних книг.
Через тридцать лет, делясь тем немногим, что осталось у него в памяти о рано погибшем отце, Новомир говорил о его страстной любви к рыбалке. Очевидно, эта страсть пробудилась в нем в последние годы жизни; раньше с его характером на такое занятие ему недостало бы ни терпения, ни времени. Вода успокаивала, одиночество давало ощущение свободы, а рыбацкий азарт – суррогат былых состояний души, отвлекал от тяжелых мыслей. Так Пепеляев когда-то, разочаровавшись в Белом движении, часами просиживал с удочкой на Сунгари.
1
Некоторых пепеляевцев отправили в Соловецкий лагерь особого назначения, о чем Пепеляев случайно узнал из выходившего там и распространявшегося по всем тюрьмам страны журнала «СЛОН», кого-то – в губернские домзаки, а наиболее важных держали в Александровском изоляторе, до революции – каторжном централе с особенно мрачной славой. Среди них сразу составились две партии – «правые» и «левые», как называла их тюремная администрация. Одни остались непримиримы к советской власти, другие, пусть с оговорками, готовы были ее признать. У первых вождем был Михайловский, во многом испортивший отношения Пепеляева с якутами, вторые общепризнанного лидера не имели. Вражда партий дошла до того, что пришлось рассадить их членов по разным камерам, но скоро всем стало не до дискуссий. Выжить здесь оказалось труднее, чем на якутском морозе.
В 1926 году Кронье де Поль подал ходатайство о досрочном освобождении. Ему отказали, поскольку, как указывалось в аттестации, он «имеет характер скрытно-замкнутый, признаков исправления нет и таковому не поддается».
А в конце – корявая по форме, но верная по сути характеристика его мироощущения: «Твердо верит в свое прошлое».
К тому времени Кронье де Поль провел под арестом сорок три месяца (срок заключения исчисляли с 18 июня 1923 года, дня капитуляции Сибирской дружины в Аяне). Об условиях, в которых он содержался, свидетельствует приложенная к делу медицинская справка с перечнем его недугов: «Одержим незаживающим свищом бедренного сустава левой ноги, перфорацией барабанных перепонок обоих ушей, общей неврастенией и катаром желудка».
Зато сидевшему вместе с ним Малышеву посчастливилось выйти на свободу. Правда, ценой потери рассудка – врачи признали его психически больным.
В Перми, вскоре после взятия ее Средне-Сибирским корпусом Пепеляева, газета «Освобождение России» напечатала стихотворение Малышева «Цыганка»:
Сквозь лохмотья светит солнце,
Говор весел, быстр и дик,
Словно звонкие червонцы
Без конца кует язык…
Теперь его язык ковал бесконечные жалобы: он «высказывал бредовые идеи преследования», сутками отказывался от пищи, заявляя, что она отравлена, в больнице обвинял врачей, будто ему «впрыснули яд прогрессивного паралича и заразу бешенства».
Тюремной администрации надоело с ним возиться, и его передали на поруки приехавшей из Харбина жене, Алле Александровне. В те годы такое еще случалось.
Может быть, именно к ней Малышев обращался в другом своем пермском стихотворении: «Целуй меня, ты – женщина, я – воин. Я шел к тебе…» Если так, то через девять лет роли поменялись: она пришла к нему.
С Аллы Александровны взяли расписку, что предупреждена о болезни мужа и принимает всю ответственность за него, и она увезла его с собой. Куда – неизвестно.
Не известно также, что с ними случилось потом и действительно ли Малышев страдал психической болезнью или чрезвычайно искусно ее симулировал. К сожалению, первое вероятнее.
О женщине, которой Кронье де Поль «дал имя Мимка», в его деле сведений нет. О дальнейшей судьбе его самого – тоже[44].
Общий для шестидесяти шести пепеляевцев десятилетний срок заключения истек в июне 1933 года. Кого-то выпустили с поражением в правах, некоторым повезло выйти на свободу раньше, кто-то не дожил до освобождения, а многих оставили в тюрьме по другим обвинениям или как лиц, признанных «социально опасными». Пепеляев принадлежал к последним. По ходатайству коллегии ОГПУ президиум ВЦИК добавил ему еще три года.
Кажется, все, о чем он постоянно писал в дневнике – о «тоске небывалой», о тяге к самоубийству, о том, что «страсть, мечты, желания отошли куда-то» и предстоящая жизнь лежит перед ним как «унылая, длинная-длинная зимняя дорога», рождено было предчувствием его теперешнего существования. Пепеляев не мог надеяться, что эти три года – последние, но когда новый срок начал подходить к концу, его судьбой внезапно озаботился нарком внутренних дел Генрих Ягода.
В начале своего письма к Сталину он напомнил ему, кто такой генерал Пепеляев, хотя это было совершенно излишне. Сталин не мог его забыть – в 1919 году, после разгрома 3-й армии и падения Перми, он выезжал на Восточный фронт во главе комиссии ЦК по расследованию обстоятельств «Пермской катастрофы». В те дни имя Пепеляева звучало громче имени Колчака.
Далее Ягода писал: «Пепеляев к настоящему моменту пробыл в заключении 12 лет и 7 месяцев, содержась все время в условиях строгой изоляции (это преувеличение. – Л. Ю.) в Ярославской тюрьме особого назначения. Считал бы необходимым освободить и запретить ему проживать в столичных центрах, Западной и Восточной Сибири, а также в ДВК»[45].
О своих связанных с Пепеляевым планах Ягода не обмолвился даже намеком. Можно только предполагать, знал ли о них Сталин, но на письме осталась помета, сделанная его секретарем Поскребышевым: «Тов. Сталин – за».
2
В январе 1936 года до окончания срока Пепеляеву оставалось еще пять месяцев. Неожиданно, ничего ему не объясняя, его из Ярославля доставили в Москву, сутки продержали в одиночной камере Бутырской тюрьмы, а наутро перевели во внутреннюю тюрьму НКВД на Лубянке.
«Я считал себя погибшим», – признавался он. Ему известно было, что сюда привозят на расстрел.
Об этом эпизоде Пепеляев рассказал через два года, в другой тюрьме. Все, о чем сообщается в многостраничном протоколе его позднейшего допроса – бредовое, но по-своему логичное сплетение самооговора и правды, которая толковалась им в нужном следователям ключе, поэтому на первый взгляд кажется ложью. Он был сломлен и говорил то, что от него требовали, но даже самые, казалось бы, фантастические узоры расшивал все-таки по канве реальных событий. Эту реальность можно попытаться восстановить, если следовать за рассказом Пепеляева, опуская внесенные туда задним числом трактовки разговоров и встреч, а также ряд деталей, сочиненных в угоду следствию или добавленных теми, кто его вел, с целью угодить вышестоящему начальству.
Итак, в тот же день Пепеляева из внутренней тюрьмы НКВД привели в кабинет начальника Особого отдела, комиссара госбезопасности 2-го ранга Марка Гая (Штоклянда).
«Гай в кабинете был один, – рассказывал Пепеляев. – При моем входе в кабинет он встал со стула, крепко пожал мне руку, пригласил сесть в стоявшее у стола кресло, а затем, обращаясь ко мне, заговорил: “Вот вы сидите у нас уже тринадцатый год, а мы вас, собственно, не знаем. Я вызвал вас к себе узнать ваши взгляды и определить вашу дальнейшую судьбу”. Я не понимал, чего он от меня хочет, и сдержанно ответил ему, что мои взгляды излагались мной в заявлениях в ЦИК и прокурору[46]. Гай, улыбнувшись, сказал, что в личной беседе лучше рассмотрит и узнает меня».
Он стал расспрашивать об участии Пепеляева в Первой мировой войне, о наградах, после чего «доброжелательно» заметил: «Мы ценим боевых военных людей. Вас можно было бы использовать в армии, но вы, вероятно, технически отстали, многое забыли».
Гай поинтересовался, может ли Пепеляев вести занятия, скажем, по тактике. Тактика, наверное, первой пришла ему на ум в связи с давно мертвым Слащевым и курсами «Выстрел»[47].
Узнав, что Пепеляев «преподавал этот предмет» в 1916 году, в прифронтовой школе прапорщиков, Гай спросил, не хотелось бы ему повторить свой опыт в каком-нибудь военном училище.
«Меня это смутило», – вспоминал Пепеляев. Он не мог понять, насколько серьезно предложение Гая.
«Ну, а сами-то вы, – продолжал тот, – что собираетесь делать, выйдя на волю?»
Пепеляев ответил, что пошел бы на военную службу, если его примут, а «если нет – поступил бы в столярную мастерскую».
Ознакомительная версия.