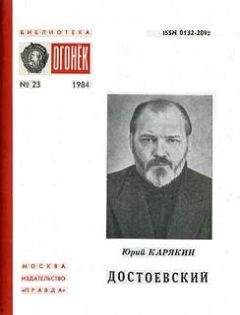«А ту маленькую девочку я отыскал... И пойду! И пойду!»
О девочке было только в самом начале. Потом она исчезла, и о ней до этой последней строчки — ни слова. Но, оказывается, она-то и жгла все время его совесть. Она-то, может (его вина перед ней), и породила сон. А проснувшись, не мог он «идти! идти!» — не отыскав ее: сил бы недостало, себе бы не поверил в своей истине, убил бы ее, истину. Он и начал с того, что отыскал девочку.
Представим: он закончил рассказ о сне. Замолчал. Молчат и слушатели. И тут он словно испугался: а вдруг они подумают, что он позабыл о девочке? (Да уж скорее они могли о ней забыть.) «А ту маленькую девочку я отыскал...» Это — о т в е т на невысказанный, но существующий и услышанный им вопрос. Следует опять пауза (отточие). Он, наверное, думает о ней. А они, слушатели? Наверное, о том, как он ее отыскивал, как расспрашивал о ней, искал ее следы (расспрашивал и, конечно, рассказывал тем людям о своем сне — самым первым им рассказывал, но, впрочем, он и капитану тому мог первому рассказать, и хозяйке, и той маленькой худенькой даме, из полковых). Он думает о ней д, словно очнувшись, возвращается к своей идее идей («Я иду проповедывать, я хочу проповедывать,— что? Истину...»):
«И пойду! И пойду!»
И надолго она остается звучать в душе, вся эта последняя фраза, надолго врезается в память сердца, царапает его, как стон-всхлип Юродивого в «Борисе Годунове».
Нет, быть может, во всей мировой прозе строки более значимой, выразительной, обжигающей, строки более натуральной, свободной и мастерской, с бесконечным подтекстом. Сама строка эта — гениальный животрепещущий образ, образ искупления человеческой вины перед людьми, образ воли искупления.
Отбросим ее и сразу увидим, что потеряно. Восстановим и сразу поймем, что она вобрала в себя и выкрикнула всю судьбу Смешного, выразила весь его живой образ. В ней, в «снятом» виде весь рассказ. Это последний аккорд, вместивший в себя всю симфонию, заставляющий услышать ее всю заново, в одно мгновение. И в поэзии такое встречается редко. Да рассказ этот и есть, конечно, поэма. Он и написан, кажется, каким-то особым стихом.
«А ту маленькую девочку я отыскал... И пойду! И пойду!»
Как все это встретили те неведомые слушатели, те случайные дорожные люди? Мне почему-то кажется, что говорил он негромко, тихо, чуть ли не шепотом (особенно именно в самых «восклицательных» местах), но каким-то раскаленным шепотом. И кажется еще (это чувствуется и в тоне, в ритме его), что он реагирует даже на взгляды, на выражение лиц своих слушателей, ясно видит их мысли и чувства, предвосхищает их вопросы. Он, в сущности, ведет сложнейший диалог. Сам он говорит, что его слово — проповедь. Но это, конечно, исповедь. Точнее так: весь рассказ — меньше всего проповедь, отчасти притча, но больше всего исповедь. Ее и слушали, наверное, затаив дыхание, не прерывая или почти не прерывая. Она не могла не захватить с первых же слов: «Я смешной человек. Они называют теперь меня сумасшедшим...» Уже в этих словах скрыта и притягивает к себе целая история, завораживает какая-то тайна.
«После сна моего потерял слова...» — Ищет, находит, нашел! Нашел, конечно. Достоевский. Отдай он эти мысли, чувства более «авторитетному» или, так сказать, официальному, официозному герою, сделай их открыто-проповедническими, возвысь их впрямую — и художественное воздействие их ослабло бы. Но он их так «снижает», что в результате они — возвышаются, оказываются художественно неотразимыми. Начинаешь сострадать гонимому Смешному и, сострадая, вдруг проникаешься его истиной, которая хотя бы на миг становится твоей. И уже не просто ты входишь в рассказ и выходишь из него в качестве персонажа или слушателя. Вдруг Смешной входит в тебя.
Так что же те слушатели? Поверили? Хотели поверить? Сблизились между собой — вот хотя бы на это мгновение и в этой вере? Или насмеялись в глаза? Сблизились в хамстве? Плюнули в душу (себе, себе прежде всего)? Или уж потом насмеялись, потом плюнули — за глаза, вслед, когда он побрел дальше? А может быть, он все-таки пробил хоть одно сердце? Может быть, кто-нибудь (даже из плевавших на него, из оскорблявших) вспомнит потом его так же, как он сам вспоминает свою девочку и свой сон? Вспомнит и — отыщет его, поможет ему и пойдут, пойдут они вместе?..
Человек хочет отдать — не взять. Хочет отдать истину, истину спасительную для людей. А они не берут, не хотят брать, насмехаются, издеваются, бьют и спешат, спешат к гибели своей. Вот и все. Вот и вся история, страшнее которой, может, и нет ничего на свете. А он все равно идет, идет, их любя, а себя виня (за то, что не нашел новых слов).
Но, конечно, я не выразил здесь и одной сотой смысла и красоты «Сна смешного человека». Я ведь понимаю, что рискнул пересказывать музыку, а потому лишь тогда был чуть-чуть точен, когда цитировал, то есть когда она звучала сама (да и то оборванная). Прочитайте, перечитайте «Сон» и убедитесь в этом.
II
«Сон» — последнее законченное художественное произведение Достоевского, если не считать его Пушкинской речи и «Братьев Карамазовых» (которые, как известно, должны были иметь продолжение). Поэтому неудивительно, что в нем «почти полная энциклопедия ведущих тем Достоевского» (М.Бахтин).
Посмотрим на «Сон» и «снизу», с точки зрения прежних открытий художника, и «сверху», с точки зрения открытий более поздних. Одно дело «Сон» сам по себе, другое — в лучах «Записок из подполья», «Преступления и наказания», «Идиота», «Бесов», «Подростка», «Бобка», «Приговора», «Кроткой», в лучах Пушкинской речи и «Братьев Карамазовых».
Сколько у Достоевского таких комнатенок в таких домах пятиэтажных («каморок», «шкафов», «гробов»)! Сколько таких штабс-капитанов, таких женщин с выводком забитых детей (Катерина Ивановна хотя бы из «Преступления и наказания»)!
И девочка здесь не просто эта девочка, а именно живой образ, заставляющий вспомнить десятки других, таких же. И в Лондоне: «Помню раз, в толпе народа, на улице, я увидал одну девочку, лет шести не более, всю в лохмотьях, грязную, босую, испитую и избитую: просвечивавшее сквозь лохмотья тело ее было в синяках... На нее никто не обращал внимания. Но что более всего меня поразило,— она шла с видом такого горя, такого безвыходного отчаяния на лице, что видеть это маленькое создание, уже несущее на себе столько проклятия и отчаяния, было даже как-то неестественно и ужасно больно. Она все качала своей всклокоченной головой из стороны в сторону, точно рассуждая о чем-то, раздвигала врозь свои маленькие руки, жестикулируя ими, и потом вдруг сплескивала их вместе и прижимала к своей голенькой груди...» («Зимние заметки о летних впечатлениях»). И в Петербурге (тут и не счесть). А та девочка, что снится Свидригайлову, или та, Матреша с кулачком, которую оскорбил Ставрогин. И «Сонечка, Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир стоит!»
Вечная девочка — как образ вселенской беды, образ греха, над нею сотворенного, образ совести.
И сколько у Достоевского таких разговоров «о чем-то вызывающем», таких «горячих» споров, где спорящим, в сущности, все равно. Вспомним только о суде над Дмитрием Карамазовым или над Раскольниковым.
В «Сне» «премудрые» старались поскорее истребить всех «непремудрых». Но это же и есть те «два разряда», на которые делят людей Раскольников, Иван Карамазов. Это и есть те, о которых говорил Мармеладов в трактире: «И возглаголят премудрые, возглаголят разумные: «Господи! Почто сих приемлеши?» И скажет: «Потому их приемлю, премудрые, потому приемлю, разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего...»
И буквально тот же вопрос — каково будет человеку на другой планете, человеку, совершившему грех на земле? — и у Свидригайлова и у Ставрогина.
Сны о прекрасном потерянном рае — опять-таки у Ставрогина, у Версилова...
А «скверная трихина» была и в последних раскольниковских снах: «Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга... Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе... В городах целый день били в набат, созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, и все были в тревоге... Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались на что-нибудь, клялись не расставаться,— но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и все погибало...»