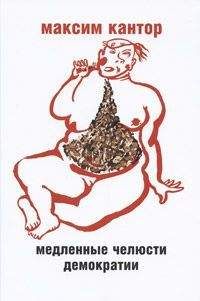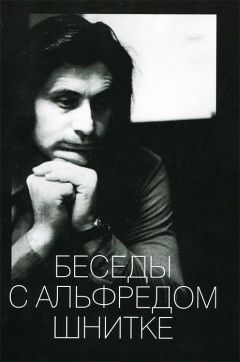И.В. – Г.: Твои слова, Паша, полностью противоречат тому, что не устает провозглашать Илья Кабаков. Он говорит о современном западном искусстве как об ослепительной системе институций. По периметру и на входе в нее располагаются заведующие отбором кураторы, и попасть внутрь этого хрустального дворца – необычайное счастье, сопровождающееся муками, обидами и боязнью, что, даже оказавшись в залах признания, ты не гарантирован от участи быть внезапно изгнанным прочь. Кстати, вместе с кураторами, которые тоже ничем не застрахованы и, несмотря на свою кажущуюся власть, всего лишь сотрудничают в общей структуре страха. Из рассказов Ильи следует, что, может быть, эта система важнее самого искусства и уж во всяком случае искусство обитает только в ней, нигде кроме для его фантазмов нет места.
А.Г.: Происходит непрерывная личная драма, несколько напоминающая гротескную ситуацию из классического модернистского романа: человек годами сидит у врат Закона, путь ему преграждает в одном лице ключник и страж, и, хотя врата эти предназначены исключительно для просителя, войти в них трудно до безнадежности. Невозможно забыть прекрасные, страдальческие слова Кабакова о приемных экзаменах, о бесконечных испытаниях и благотворности давления, страха: ужас, что художника прогонят из институций, из чертогов Закона, обостряет его тягу к искусству и даже, если развить кабаковскую мысль до логического предела, служит единственным стимулом этой тяги.
П.П.: Эта мифологема, отточенная Ильей до состояния брильянта, была очень уместна в конце 80-х годов. У меня на сей счет другое мнение; правда, мне кажется, что Илья уже тоже думает немного иначе, по крайней мере мы соглашались друг с другом, когда недавно говорили на эту тему. Он сейчас описывает ситуацию в гораздо более личных терминах, это его персональная мифология. В этом смысле замечательный, прямо-таки гениальный текст написал он для «Пастора», отвечая на вопрос, как стал художником. Однажды, будучи очень маленьким, он в парке забрался на эстраду и прочел стишок, из чего Илья делает вывод, что в нем заложено глубокое желание репрезентироваться, быть принятым.
Любопытно, он повторяет здесь говоренное им и раньше, но на этот раз все переводится в личную плоскость, перекодируется на субъективный лад. Я не сомневаюсь: еще какое-то время назад его ощущение было не субъективным, а характеризовало общую ситуацию, и поэтизирующая реакция Кабакова явилась отражением того, что воспетый им мир художественных институций в прощальный раз сверкнул своими гранями и попал в поле зрения художника, который – как настоящий превосходный поэт – воздал по заслугам этому финальному сиянию и блеску.
А.Г.: После этих слов грех не задать личного вопроса. С каким типом честолюбия вы все-таки связываете свою деятельность, если, конечно, вам сколько-нибудь свойственно честолюбие, и что вами движет в художнической работе?
П.П.: Я в основном движим различными страхами, опасениями; честолюбие тоже есть, но оно ими перекрывается. Скажем, моя активность в области современного искусства очень возросла во время нестабильности в России, когда мне по житейским соображениям казалось, что надо на Западе копошиться и зарабатывать, – возвращаться в Москву было страшно. У меня нет особой фиксации на искусстве, это просто мое естественное занятие, я с детства рисовал, рисовал. Будь я страшно богат, я не стал бы участвовать ни в каких выставках, обременяться. Эту сторону художественной деятельности я воспринимаю как необходимость – чтобы деньги продолжали поступать и чтобы на х… не послали. Но если б я был обеспечен… я, например, очень люблю путешествовать, до сих пор все мои поездки были связаны с современным искусством, каковые занятия я использовал в качестве предлога для перемещений, но, окажись у меня много денег, я просто путешествовал бы, безотносительно ко всем обязанностям. Недавно нам удалось совершить три такие поездки в Азию, и я был страшно доволен, впервые за долгое время ощутив себя не странствующим по своим делам художником, а туристом. Хотя все это сложно и разочарование сюда примешалось немалое. Вначале был огромный энтузиазм и вера в то, о чем говорил Кабаков, вспоминаются, как выражались в Советском Союзе, моменты «глубокого удовлетворения», когда сделанная тобой выставка и полученная на нее реакция соответствовали твоим представлениям и ожиданиям, но, поскольку процент неудовольствия тоже был велик, возникло желание не быть приклеенным к этой области, захотелось свободно дрейфовать. А что до моих личных констант, то я занимаюсь литературой, писанием теоретических, дискурсивных текстов и рисованием – графикой. Это три персональные линии, которые я веду помимо работы в «Медгерменевтике», и я не прочь попробовать себя в четвертой: мне было бы очень интересно снять кино, настоящий фильм на полную катушку, но пока не знаю, как в эту зону прокрасться.
И.В. – Г.: Почему все-таки группа, Паша? Какую ценность представляет для тебя сегодня групповая работа?
П.П.: Продолжать групповую работу следует хотя бы для того, чтобы не стать достоянием истории. «Ох, эти проклятые книжищи, сгубили вы нашего мальчика» – помните замечательное стихотворение Лимонова? У нас к этим историческим книгам итогов отношение двойственное: разумеется, попасть в них приятно, но, с другой стороны, нельзя позволять, чтобы они сожрали тебя, – мы же не материал для книжищ, а самостоятельные, ускользающие колобки. Как только мы скажем, что МГ подошла к концу, и объявим о прекращении совместной работы, тут рыба истории нас сразу же и проглотит. Мы предпочитаем нашу деятельность длить, но многое из того, что мы совершаем, остается нерепрезентированным. В эпоху колоссального информационного шквала крайне важно давать неполную информацию, и сведения о нашей группе мы сообщаем весьма дозированно, акцентируя внимание не на том, что делаем сейчас, а на том, что было нами сделано несколько лет назад. Важно не быть в режиме послушной, оперативной подачи сведений о себе. Ведь все мы живем в период, когда средства информации взяли на себя функцию, которую раньше выполняли инстанции, наподобие КГБ. Если прежде это была секретная система слежки, то демократическое общество предполагает, что каждый должен донести сам на себя, быть своим собственным стукачом, дабы государство не расходовалось на установку в его квартире скрытой камеры. Базовой основой этой системы самослежения и самодоноса является психоаналитическая модель – на ней и построена современная демократия. Посмотрите, с какой невероятной непосредственностью подают о себе информацию западные художники. Имея опыт преподавания в западных арт-колледжах, я не раз сталкивался с тем, что студент немедленно демонстрирует тебе порт-фолио, где аккуратнейшим образом представлена вся его деятельность – так, чтобы удобно было с ней ознакомиться. И, пока ты смотришь порт-фолио, он подробно рассказывает, кто его родители и какие у него отношения с девушкой. Это отнюдь не эксгибиционизм, но система тотальной прозрачности, где зона прайвеси не предполагает приватной укрытости: наоборот, все видны всем и знают, что у кого в холодильнике. Мы же продолжаем перечить этой глобальной системе и вносим в общий регламент массу скрытых нарушений, дисфункций.
М.Г.: При чем тут самодонос? Это попытка сообщить о себе информацию в то место, в котором человек заинтересован, в котором ему хочется быть. Никто его к этому не принуждает, он сам выбирает себе поприще, и если таковым становится для него искусство, то естественно, что ему нужно продемонстрировать свои способности и результаты – составить порт-фолио, доказав, что он лучше прочих.
П.П.: Все верно, существует модель показа своих достижений, например, умения прыгать. Но когда общаешься с молодыми западными художниками, то говорят эти люди не о том, как здорово они прыгают, а о том, что болит нога. Сообщается масса сведений негативного толка, вовсе не информация об успехах и профессиональном умении. Мама была невротичка, дедушка – сумасшедший сектант… Многие студенты начинали разговор со своей неспособности к работе и затем излагали причины: травма, кризис, ушла девушка, бросил парень. В демократической системе невозможность работать приравнена к замечательным достижениям, потому что все должны быть на равных. Ну, да, этот не способен к работе, но зато он может прекрасно рассказать, отчего оно так получилось. А этот, наоборот, что-то делает – пусть и он расскажет, что его к тому побудило. Наверное, у него были хорошие родители. Главное – рассказать. Исповедальная культура, мы живем в очень исповедальном мире, где исповедь – самый популярный жанр, идущий от Блаженного Августина, Руссо. Совсем не отчет о подвигах и победах, напротив, – о прегрешениях и мучениях, это гораздо более интересно читателю.
А.Г.: В какой степени на вас повлияли восточные способы мысли и чувствования? В словах ваших постоянно присутствует оппозиция западному, иудео-христианизированному миру высказываний – самых разных, от художественных до исповедально-практических, связанных с религиозной культурой этого ареала.