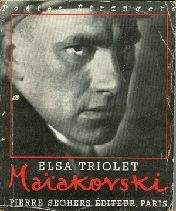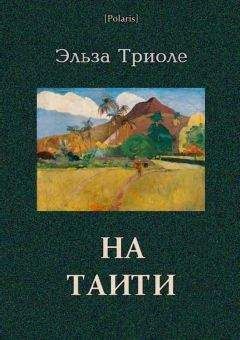-------------
В каждой фазе его жизни у Маяковского были враги в литературных кругах. Существовали целые школы и движения, враждебные футуристам и "Лефу". Были такие, кто считал, что писать следует как Пушкин или Толстой, и были те, кто принимал лишь творчество пролетарских писателей. Некоторые упрекали Маяковского за пропагандистскую поэзию и социо-политические стихи, и утверждали, что каждое слово в них неискренне. Другие критиковали его за лирические стихи — особенно любовные — потому что, по их мнению, от них пролетариату нет никакой пользы. Были те, кто жаловался на то, что он слишком предан партии… И те, кто говорил, что он недостаточно предан. Некоторые говорили, что он исчерпался, опорожнился, потерял и намёк на прежний талант… (как блестяще он опроверг эти обвинения своей последней поэмой "Во весь голос" и некоторыми другими, опубликованными посмертно, в которых он достиг почти сверхестественного совершенства). Были всякие: реакционеры, сектанты и просто завистники.
Своими высокомерием и презрительными эпиграммами в стихах и прозе, которые некоторые и посейчас извлекают на свет божий при любой возможности, Маяковский не смягчал подобное сопротивление. "Чинуши от литературы" были просто ослеплены ненавистью к этому человеку, так превосходящего и вдавливающего их в землю каблуком своей гениальности. Они даже не осознавали, что означает Маяковский для нации, молодёжи… До самого дня его похорон, превратившихся в громадное, суматошное паломничество. Организаторы и представить себе не могли, что на улицы выйдут сотни тысяч людей, желающих пойти рядом с гробом. Откуда было знать им, одержимым личными мелочными интересами, о любви к поэту, которую способна испытывать целая нация? Они и понятия не имели…
Маяковский видел их насквозь. На своём последнем выступлении перед смертью он впервые прочитал "Во весь голос". Вот последние строки поэмы:
Явившись
в Це Ка Ка
идущих
светлых лет,
над бандой
поэтических
рвачей и выжиг
я подыму,
как большевистский партбилет,
все сто томов
моих
партийных книжек.
Его преследовали до самой смерти. Работы публиковали в неверных версиях, книги и портреты изымали из публичных библиотек. В 1934 году я напоролась на одного из тех " чинуш от литературы" на съезде писателей в Москве, и упрекнула его за то, что он убрал имя Маяковского из одной из статей журнала, как будто оно было позорным. Он ответил: "Существует культ Маяковского и мы боремся с ним изо всех сил". Кого он имел в виду под "мы"?!
Во всяком случае не Ленина. В 1922 году, выступая с речью на съезде металлистов, Ленин сказал своей аудитории:
Вчера я случайно прочитал в "Известиях" стихотворение Маяковского на политическую тему. Я не принадлежу к поклонникам его поэтического таланта, хотя вполне признаю свою некомпетентность в этой области. Но давно я не испытывал такого удовольствия, с точки зрения политической и административной. В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно.
И не Сталина. Сталин признавал гениальность Маяковского и выразил своё мнение о том, что "Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи". Он также добавил, что "равнодушие к его памяти и творчеству преступление". И понемногу критика, клевета и личная неприязнь исчезли, и дереву славы Маяковского позволили вырасти… прямым и высоким.
Он никогда не работал, сидя за столом с ручкой в руке. Он работал везде, где бы ни находился, с утра и до ночи: на улице, по которой блуждал часами, беседуя с кем-нибудь, флиртуя с женщинами… что бы он ни делал, он приносил работу с собой, в голове. Это главная причина, по которой он мог произвести впечатление мрачного, озабоченного и неразговорчивого человека, и почему общаться или вести с ним беседу было так нелегко.
В начале своей поэтической карьеры он "писал" — если это можно так назвать — свои стихи полностью в голове, на память. Стихотворение, которое он переделывал десять или даже сто раз, переносило все эти трансформации в его голове. Он перечеркивал, изменял, переписывал поэму из 1500 строк в уме и прекрасно помнил каждую версию. И то, что он в итоге переносил на бумагу, оказывалось финальным черновиком серии черновых вариантов, над которыми он порой работал месяцами. Позже он стал записывать слова, предложения и строки в свои драгоценные записные книжки, называя их "поэтическими заготовками".
У него была гениальная память. Он не только знал наизусть собственную поэзию (а это немалое количество книг к концу его жизни), но и тома другой поэзии, древней и современной.
В своей статье "Как делать стихи" Маяковской даёт точные технические детали своего метода:
Вы хотите писать и хотите знать, как это делается. Почему вещь, написанную по всем шенгелевским правилам, с полными рифмами, ямбами и хореями, отказываются принимать за поэзию? Вы вправе требовать от поэтов, чтобы они не уносили с собой в гроб секреты своего ремесла.
Я хочу написать о своем деле не как начетчик, а как практик.
--------------------------
Старые руководства, к писанию стихов таковыми безусловно не являлись. Это только описание исторических, вошедших в обычай опособов писания. Правильно эти книги называть не "как писать", а "как писали".
Говорю честно. Я не знаю ни ямбов, ни хореев, никогда не различал их и различать не буду. Не потому, что это трудное дело, а потому, что мне в моей поэтической работе никогда с этими штуками не приходилось иметь дело.
---------------------------
В поэтической работе есть только несколько общих правил для начала поэтической работы. И то эти правила — чистая условность. Как в шахматах. Первые ходы почти однообразны. Но уже со следующего хода вы начинаете придумывать новую атаку. Самый гениальный ход не может быть повторен при данной ситуации в следующей партии. Сбивает противника только неожиданность хода.
----------------------------
С моей точки зрения, лучшим поэтическим произведением будет то, которое написано по социальному заказу Коминтерна, имеющее целевую установку на победу пролетариата, переданное новыми словами, выразительными и понятными всем, сработанное на столе, оборудованном по НОТу, и доставленное в редакцию на аэроплане. Я настаиваю — на аэроплане, так как поэтический быт это тоже один из важнейших факторов нашего производства.
----------------------------
Предшествующая поэтическая работа ведется непрерывно. Хорошую поэтическую вещь можно сделать к сроку, только имея большой запас предварительных поэтических заготовок.
В ней Маяковский показывает примеры своих поэтических запасов, рифм, аллитераций и тем, таких как: дождь в Нью-Йорке, старик при уборной в огромном ресторане в Берлине, американская песенка, требующая изменения и русифицирования…
Все эти заготовки сложены в голове, особенно трудные — записаны.
Способ грядущего их применения мне неведом, но я знаю, что применено будет все.
На эти заготовки у меня уходит все мое время. Я трачу на них от 10 до 18 часов в сутки и почти всегда что-нибудь бормочу. Сосредоточением на этом объясняется пресловутая поэтическая рассеянность.
Работа над этими заготовками проходит у меня с таким напряжением, что я в девяноста из ста случаев знаю даже место, где на протяжении моей пятнадцатилетней работы пришли и получили окончательное оформление те или иные рифмы, аллитерации, образы и т. д.
Он даёт несколько примеров рифм и рассказывает, где была сложена каждая из них: в Страстном монастыре в 1912 году, у дуба в Кунцеве в 1914 году, на извозчике на набережной в 1917, и так далее…
Эта "записная книжка" — одно из главных условий для делания настоящей вещи.
Об этой книжке пишут обычно только после писательской смерти, она годами валяется в мусоре, она печатается посмертно и после "законченных вещей", но для писателя эта книга — всё.
-------------------------------------
Только присутствие тщательно обдуманных заготовок дает мне возможность поспевать с вещью, так как норма выработки при настоящей работе это — 8-10 строк в день.
Поэт каждую встречу, каждую вывеску, каждое событие при всех условиях расценивает только как материал для словесного оформления.
Раньше я так влезал в эту работу, что даже боялся высказывать слова и выражения, казавшиеся мне нужнЫми для будущих стихов, — становился мрачным, скучным и неразговорчивым. Году в тринадцатом, возвращаясь из Саратова в Москву, я, в целях доказательства какой-то вагонной спутнице своей полной лояльности, сказал ей, что я "не мужчина, а облако в штанах". Сказав, я сейчас же сообразил, что это может пригодиться для стиха, а вдруг это разойдется изустно и будет разбазарено зря? Страшно обеспокоенный, я с полчаса допрашивал девушку наводящими вопросами и успокоился, только убедившись, что мои слова уже вылетели у нее из следующего уха. Через два года "облако в штанах" понадобилось мне для названия целой поэмы.