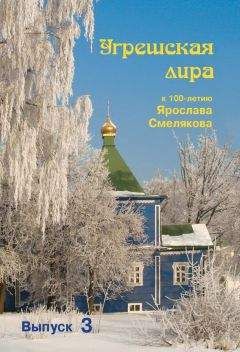Знаешь, изо всех стихов Твардовского мне больше всего по душе, по нутру одно стихотворение, никем не замеченное.
Как после мартовских метелей.
Свежи, прозрачны и легки,
В апреле —
Вдруг порозовели
По-вербному березняки.
Весенним заморозком чутким
Подсушен и взбодрен лесок,
Еще одни, вторые сутки,
И под корой проснется сок.
И зимний пень березовый
Нальется пеной розовой.
Кланяюсь тебе нашей приволжской вербой, ее умиленной слезой.
Федор Сухов.
24 марта 1983 г.,
с. Красный Оселок".
Письмо было неожиданно личным, сердечным, доверительным, "неожиданно" потому, что до сего времени мы с Федором Григорьевичем Суховым случайно раз, другой встречались то ли в Доме литераторов, то ли в Доме творчества и ни о чем всерьез поговорить не успели. А тут такие слова, как будто мы давно знакомы, и даже засохшая веточка вербы приколота к письму, как прямое свидетельство того, что письмо написано в конце марта, и как живое дополнение к чудному стихотворению Твардовского.
С той поры и началась наша переписка, закончившаяся только после смерти Федора Сухова. Следующее письмо было как бы благодарностью его за то, что я написал в издательство "Современник" рецензию, в которой настаивал на скорейшем издании его книги.
"Дорогой Станислав!
Давным-давно послал тебе письмо, в котором я оповещал тебя, что мой знакомый, бывший директор средней школы города Первомайски, ныне краевед-пенсионер Клюев Николай Федорович, просил у меня твой адрес. Он хотел уведомить тебя о построенной твоим дедом больнице в бывшем Ташине (ныне Первомайске), или (лучше) в нынешнем Ташине (бывшем Первомайске). Не знаю, получил ли ты это письмо или нет. И еще. Послал тебе свою книгу "Подзимь". Тоже не знаю, получил ты ее или нет. А я вот получил твою рецензию из издательства "Современник" на мою рукопись. Благодарен тебе за преувеличенно-высокий отзыв. Меня слезы прошибли, я ведь до сих пор в черном теле пребываю. К сожалению, издательство не может издать мою книгу, оно перешло на издание только новинок. Ничего, переживем. И еще. Ты меня считаешь поэтом войны, себя я таковым не считаю. Если я действительно поэт, то поэт наших российских пажитей, поэт своего Красного Оселка, ибо "более всего любовь к родному краю меня томила, мучила и жгла".
Дорогой Станислав, может, махнешь в наши нижегородские пределы, в которых пребывали не забытые нижегородцами твои родичи.
А у меня в Красном Оселке уже поют соловьи, поют оттого, чтобы согреться, холодно, да и голодно в сельской местности, впрочем, сам я довольствуюсь ромашками-кашками, всякой съедобной и несъедобной травкой, поэтому продовольственная программа меня особо не волнует, вернее, она меня не довольствует, я ее не ем. Шучу! Что же, можно и пошутить от радости, ты действительно утешил меня.
Кланяюсь тебе нашей Волгой, моим Красным Оселком.
Федор Сухов.
3 (день Пасхи) 1986 г.,
с. Красный Оселок".
Повторюсь, что поводом для этого письма была внутренняя рецензия на рукопись Федора Сухова, которую я написал для издательства "Современник". Рукопись восхитила меня. Что же касается сообщения Сухова о больнице, якобы построенной моим дедом в Ташино, то здесь Федор что-то напутал. До перевода в Нижний Новгород дед с бабкой в 1905–1912 годах работали в земской карамзинской больнице в поселке Рогожка, что неподалеку от Дивеевского монастыря и Арзамаса-16.
Кстати, и на той больнице в начале 90-х годов была открыта памятная доска, увековечившая имя деда.
А письма Федора Сухова я всегда получал с особым волнением. В них встречались и короткие, но точные оценки поэтов России, и краткие, но выразительные картины родной природы и деревенской жизни, и живые подробности жизни собственной. Угадывалось по письмам, что одиноко ему было в эти годы на родине, не с кем было поговорить душевно и откровенно. Власть тогдашнюю он не любил, да и она его не жаловала, в круг официально признанных поэтов, в привилегированную фронтовую обойму попасть не стремился, потому и жил замкнуто и, найдя во мне сочувствие и понимание, время от времени отводил душу в письмах. Иногда обращался со мной на "ты", а иногда вдруг, от природной деликатности, что ли, переходил на "вы".
"Дорогой Станислав Юрьевич!
В Ялте приобрел Вашу книгу "Пространство и время". Ваши книги у меня и до этого были, я их читал и хорошо знаю Вашу поэзию. Но так уж бывает, только по последней Вашей книге почувствовал (ощупал), как мы с Вами близки. И эта близость радует, приятно знать, что ты не одинок. Я всю жизнь искал какой-то близости, в свое время восхищался Н. Тряпкиным, М. Исаковским, А. Твардовским, А. Прокофьевым… Мне кажется, наша поэзия утратила ту образность, начало которой так блистательно являли Н. Клюев, С. Есенин, утрачена музыка, без которой не мыслили А. Блок, А. Ахматова, Б. Пастернак, М. Цветаева.
Мне близка Ваша музыка, Ваша словесная весомость.
Был бы очень рад увидеть Вас в наших нижегородских пределах. Кланяюсь Вам последней улыбкой нашего русского лета.
Федор Сухов.
16 октября 1986 г.,
с. Кр. Оселок".
К листку был подколот высохший, пожелтевший цветок луговой фиалки… А еще стихотворение Федора Сухова, написанное также от руки. Стихотворение — доверительное, очень личное, а по тем временам и крамольное.
Обезглавлены колокольни,
Наземь сброшены колокола…
Кони, кони, каурые кони,
Больше нет ни двора, ни кола.
Да и нету коней-то. Нету.
Ни телеги нет, ни дуги.
Возвышая глаза свои к небу,
На свои возвращаюсь круги.
Я к тебе возвращаюсь, о Господи,
Сына блудного не отринь!
Упаси от дьявольской гордости
На свет вышедшую полынь.
Лебеду мою к давней истине
Через гати свои проведи.
Знаю — выживет, выстоит
Только тот, кто идет впереди;
Кладет свою душу,
Умирает за други своя,
В холодь майскую, в майскую стужу
Своего прибодрит соловья.
Отогреет дыханье яблонь
На рассветной студеной заре, —
Только доброе семя прозябнет,
А недоброе сгинет в земле.
2 мая 1986 г.
Возможно, что стихи ("на свет вышедшую полынь") написаны и под впечатлением от Чернобыля… Не знаю, успел ли Федор Сухов опубликовать их. Кажется, что нет.
Поводом для следующего письма послужило то, что мы с сыном издали в 1986 году в Архангельске самую полную по тем временам книгу стихотворений и поэм Николая Клюева, и я, зная, как любит поэзию Клюева Федор Сухов, сразу же послал книгу ему в Нижний Новгород.
"Дорогой Станислав!
Мое ретивое замерло от неожиданного подарка. Если бы ты знал, какую радость доставил мне…
Начало января 1942 года, наша 14-я противотанковая бригада была переброшена из-под Воронежа под Сторожевое, мой взвод противотанковых ружей занял позиции в самом селе. Была оттепель. В брошенных и разбитых домах беспризорно валялось всякое барахло. В одном разбитом доме с листа дореволюционного журнала жалобно глянули на меня сточенные подтаявшим снегом стихотворные строки.
Черны проталины навозом,
Капустной прелью тянет с гряд,
Ушли метелицы с морозом,
Оставив марту снежный плат.
И за неделю март-портняжка
Из плата выкроил зипун,
Наделал дыр, где подзапашка,
На воротник нашил галун.
Кому останется обнова?..
Трухлявы кочки, в поле сырь,
И на заре в глуши еловой,
Как ангелок, поет снегирь.
Капели реже, тропки суше,
Ручьи скатилися в долок…
Глядь, на пригорке лен кукушкин
Вздувает синий огонек.
Тогда-то я испытал великое блаженство от первого знакомства с поэзией Николая Клюева. Раньше я знал (из автобиографии С. А. Есенина) только фамилию этого поэта. Беспризорно кричащие, вернее, плачущие строки навсегда нашли приют в моей памяти. После войны в Москве в букинистическом магазине я приобрел два сборника Н. А. Клюева "Сосен перезвон" и "Избяные песни", сборники эти когда-то принадлежали Пясту. Потом стали попадаться стихи Н. И. Тряпкина, стихи эти я воспринимал, как продолжение той поэзии, родоначальником которой был олонецкий чудодей…