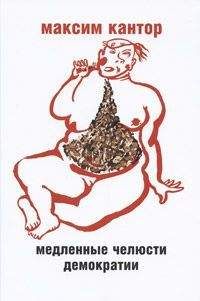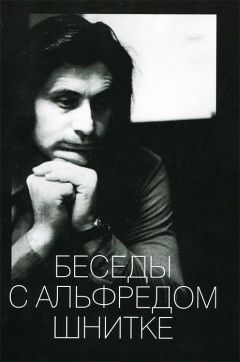Я должен был договориться сам с собой: почему это я такой еврей-еврей, а в Израиле не живу? Договорился. Я решил осознать такой ужас, что я боюсь. Я, например, не даю денег на Израиль. Моя хорошая Мария считает, что нужно давать деньги на Израиль, а я не даю. Не хочется. Я ни на что не даю. Да, я такой. И в то же время крик «Умри…» я слышу, ох, еще как. Хотя никто не кричит мне его. Перед лицом опасности я, как любое животное, прижимаю ушки и пытаюсь лучше глядеть, у меня глаза прямо из орбит вылезают. И моя реакция на этот крик, этот ужас из меня не уходит никуда. В моих стихах даже написано, что я – скульптура страха, я всю жизнь чего-то боялся и всю жизнь превращал мой страх в творческую штуку. Может быть, это было до того, как я стал евреем, а может, это связано с еврейством. Не знаю. Не знаю – это у меня самое научное, как раз когда я говорю – не знаю, тут-то я и есть ученый. Я горжусь тем, что я скажу, что не знаю причины антисемитизма. Потому что то, что у меня рвется с губ, слишком залапано моими эмоциями, и моя наблюдательная сила ослабевает. Во всяком случае я знаю только одно: я слышу «умри», идущее сквозь века. Что-то очень страшное. Но, может быть, это все не так на самом деле, никакого антисемитизма нет, и если мы отдадим то, другое, третье, то будет все хорошо, а я слышу… Может, я не прав. Я думаю, мы должны углубиться в «живу…», то есть в свое еврейство. Я в это дело включаю железной рукой тех, кто, как я, слышит это крик.
…Сейчас в Европе такой человек, который мне говорит: «Что там происходит? Я ничего не понимаю!», для меня хороший, значит, он не поддался вранью, я таких людей люблю и уважаю. Хороший европеец – он чувствует, что явно врут, и хочет спросить…
Надо устоять против крика. Помнишь, как убивал Соловья-разбойник? Свистом. И я сейчас слышу, как Европа свистит, – это страшный свист. Я его слышу и гнусь к земле. Но мне уже поздно убежать, я, может быть, не убегаю только потому, что поздно, у меня уже ноги так не бегают, а хочется убежать, и в этом смысле только Европа так поет.
И. В. – Г.: А Америка не поет?
М.Д.: Америка? Просто есть такой богатый город, у которого свои интересы, и он хочет быть богатой, хорошей империей, веселой, римской. Они когда-нибудь страшным образом накроются, но, пока этот город говорит: да подите вы все… – у них нет ненависти к евреям. Американский антисемитизм очень маленький, он есть, есть такое слово «кайк», знаете? Как же, надо знать, кто мы такие есть. «Кайк» – по-американски «жид», этого в словарях не пишут. И по-японски «жид» есть.
И.В. – Г.: А что Россия свистит?
М.Д.: Временно Россия ослабла. Именно из России должны были непосредственно прийти и убить. Русский – как заказной убийца. Должен прийти такой Иванов и влепить из пистолета Макарова две пули. Сейчас у этого заказного убийцы свои проблемы, и у власти стоят американцы. Россия будет всегда страшной, конечно. Но в России кричат бандюжки, и это пока не так ужасно. А настоящий свист, чтобы между ушами, – это Европа.
Европа очень страшно поет. Почему страшно? Многие думают, что Европа – защита. Так думают все левые, среди остальных так думают те, кто любит культуру. Но этот крик потому и страшный, что идет из глубин европейской культуры.
Это европейская культура призывает вас умереть. Это от имени Микеланджело вам кричат хулиганы, это вам церковь кричит, понимаете, это вам кричит чистота Европы…
«Зеркало» №№ 17–18, 2002 г.
Круглый стол журнала «Зеркало»
Участники:
Ирина Врубель-Голубкина, главный редактор журнала «Зеркало»
Александр Бараш, поэт
Александр Гольдштейн, литератор
Михаил Гробман, художник, поэт
Яков Шаус, литературный критик
Ирина Врубель-Голубкина: Формальным поводом для нашей беседы стала подготовка десятого выпуска толстого журнала «Зеркало», не считая 32 тонких ежемесячников. «Зеркало» появилось из возможности совместного разговора, и круг этого общения за почти десять лет существования журнала очень расширился.
Александр Гольдштейн: Рубеж обязывает к подведению некоторых итогов. Возникла общая потребность в разговоре о том, что является предметом наших профессиональных интересов. Хочется поговорить о самой плоти современной литературы, а не о социальных, культурных обстоятельствах, в которых существует словесность, – хотя и от них, от контекста, никуда не деться. Сама наша речь определяется всевозможными контекстами. И все же попытаемся сосредоточиться на литературе как таковой. Что для каждого из присутствующих является в ней перспективным, интересным, действенным, что он хотел бы видеть в современной литературе?
Александр Бараш: Меня больше всего интересует опыт, пережитый кем-то и донесенный в той форме, которая каким-либо образом доступна. И в том, что пишу, я пытаюсь заниматься тем же: «прокручиванием» жизни для распутывания психологических узлов, завязывая художественные, – для того, чтобы понять, кто я сейчас, кем был раньше, что такое в целом это подвижное во времени единство, определяемое понятием «я», какие там внутренние связи и есть ли они. Единственный способ понимания – процесс письма. То же самое интересует меня и у других.
Для того, чтобы нащупать свой опыт, зафиксировать его и жить с этим дальше, я должен вырабатывать «попутно» новые средства осознания и фиксации. Подтверждение подлинности говорения – красота высказывания. Красивое высказывание – в первую очередь свежее высказывание, но, благодаря его точности, ты вспоминаешь себя и мир, в самом широком смысле слова «вспоминаешь». Красота – это точность отработки человеческого опыта и реализации его в тексте.
Яков Шаус: Последние десятилетия двадцатого века в русской литературе были периодом использования самых разных способов письма. Было много очень интересного – на всех уровнях: от самых изобретательных стилевых экспериментов до попыток эксплуатировать масскультуру. В литературе, по моему наивному убеждению, чередуются периоды агрессивного отрицания «надоевшего» и, соответственно, интенсивного генерирования новых форм – и эпохи «опрощения». В какой-то момент литература вроде бы отказывается от нацеленности на новизну и как бы возвращается к «прежним ценностям». Но, конечно, все приобретения остаются с писателем – просто они не выставляются напоказ.
В поэзии последних десятилетий мы видели массу экспериментов. Но сегодня хочется возвращения к личному – тому, что всегда составляло сущность поэзии.
То же самое в прозе. Невозможно реанимировать старой модели романа, автор которого все знает о своих героях и сам за них все рассказывает. Рядовой читатель, сам того не подозревая, стал грамотней – так же, как самому необразованному, но просмотревшему сотни фильмов кинозрителю через сто лет после братьев Люмьер не надо объяснять, почему на экране «отрезанная голова», что такое наезд, монтаж. Даже «простая» проза сегодня очень уплотнена, многослойна. Но уже раздражают изящные цитаты, словесные кружева – испытываешь потребность в чем-то основательном, первичном – в романе как модели бытия. В наши дни в России все политизировано, а здесь, в Израиле, от политических пертурбаций вообще зависит твоя жизнь – в прямом и трагическом смысле. Я – за подпитку литературы самой актуальной политикой.
Михаил Гробман: Но при всем нашем желании, чтобы литература была качественной, существуют вещи, которые гораздо важней самой литературы, и именно они придают ей общественную значимость. Чтобы литература всерьез настигла читателя, она должна прежде всего иметь конкретное отношение к нашему существованию, к пространству, в котором мы находимся. Если этой связи нет, то литература может быть красивой, увлекательной, но живет она жизнью мотылька.
Все это очевидно, и потому я хотел бы обсудить две темы. Первая – это журнал «Зеркало», который в современной словесности ни на кого не похож. У него свой язык, свое концептуальное отношение к действительности и к письму. Как мы отбираем материалы для «Зеркала»? Почему одни тексты соответствуют нашим критериям, а другие отвергаются, хотя сделаны достаточно профессионально? Вторая тема: литература возникает на базе того, что мы проживаем и чего мы хотим от этой жизни. Без литературы, даже самой красивой, – как и без любого искусства – человек вроде бы может обойтись. Но, как только мы перестаем думать о том, что происходит с нами и нашим обществом, перестаем искать слова для выражения своих мыслей, наступает паралич личности.
Вопрос: как мы – литераторы круга «Зеркала» – определяем себя в пространстве современной литературы, как отделяем важное от банального?
И.В. – Г.: Что такое литература вообще и что такое русская литература? Что означает наша принадлежность к определенной культуре? Что собой представляем мы? Вопрос языка и стиля – один из главных в нашей ситуации. Мы знаем западную классику и модернизм, но остаемся людьми русской культуры. А то, что отдельные «знаковые» произведения современной литературы с опозданием дошли до людей, ничего не значит. Мы многое впитали не прямо, а опосредованно – из других книг, в которых были использованы находки писателей, запрещенных в Союзе. Многие прочли Селина поздно – и наряду с сильным впечатлением было ощущение знакомости текста. Мы сохраняем накопленный искусством опыт и развиваемся вместе с литературой.