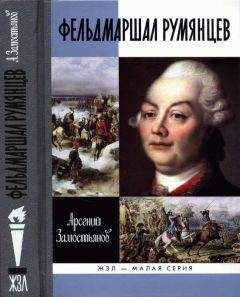начертал самостоятельно. Да, это была попытка оттянуть закат Европы, спасти стареющую христианскую цивилизацию, потерявшую инстинкт самосохранения после Французской революции. В Священный союз он поверил с неожиданной искренностью. То был уже не молодой скептик, но христианин, склонный к мистике и даже к экзальтации. «Пожар Москвы осветил мою душу», — это легендарное признание многое объясняет и в политике Александра.
Запала, как известно, хватило ненадолго: к 1850-м годам противоречий оказалось больше, чем скреп. А Парижский трактат 1855 года уничтожил мир Священного Союза, исключил Россию (как оказалось, на время) из клуба вершителей судеб Европы. Да и сам клуб лишился смысла. Но Александр верил, что создаёт условия для мирного братства монархов на века.
В акте об образовании Священного союза говорилось о Спасителе, о Троице и о вечной дружбе монархов. Конечно, автор этих слов — Александр. Это он желал, чтобы каждый монарх ощутил себя «перед лицом вселенной». В 1815-м так говорить не принято! Времечко-то было скептическое. И в Европе звучал Бетховен, а не Бортнянский.
После таких проповедей некоторые подозревали Александра в умопомешательстве. А он просто искренне и простодушно воспринял Евангелие, к которому впервые обратился только в 1812-м году. И мыслил с максимализмом неофита.
К сожалению, мы часто судим об исторических процессах по стереотипу: если правительство занимается реформами — это честь для монарха и благо для народа. Всё остальное воспринимается, как пагубный застой. Вот и в биографии нашего императора выделяют «дней Александровых прекрасное начало» и стагнацию последнего десятилетия, когда усталый царь отказался от реформ. Если бы всё было так просто! Указ 1803 года «О вольных хлебопашцах» считается прогрессивным начинанием Александра, но своей задачи он не выполнил. За всё время действия указа свободу получили полтора процента крепостных… Даже осмеянные военные поселения оказались более эффективной задумкой и просуществовали до 1857 года.
Но либеральные комментаторы демонизировали позднего Александра. «Тот, которым восхищалась Европа и который был для России некогда надеждою, как он переменился! Одним словом, теперь ничего нельзя предвидеть хорошего для России», — восклицал Николай Тургенев. Так и утвердилось.
Поворот императора к консерватизму не был болезненным, как не было укоренённым его «республиканство». Просто, всерьёз увлекшись Евангелием и политикой, он обнаружил себя консерватором. Правда, только в последние годы царствования он отмахнулся от мистиков масонской закваски и погрузился в православную традицию. Много лет немалое влияние оказывал на императора Александр Голицын — министр Просвещения, организатор Русского библейского общества и, конечно, вольный каменщик.
Летом 1822 года лидер придворных консерваторов, граф Аракчеев устроил встречу императора с архимандритом Фотием. Молодой старец призывал ополчаться против духовного Наполеона — министра просвещения А.Н.Голицына, от деятельности которого православная церковь изнывала. Через месяц выходит императорский указ о запрете масонских лож и тайных обществ. Архимандриту Фотию было всего тридцать лет, но сам облик молитвенного святителя, его пылкие речи внушали трепет. Он не боялся в лицо обличать политику императора: Александр давно уже не слыхал столь строгих интонаций. В конце концов Аракчееву и Фотию с превеликим трудом удалось скомпрометировать Голицына перед государем — и «ересиарха» удалили с основных должностей. Но это случилось за полтора года до смерти императора. Таганрогский рубеж — 19 ноября 1825 года — прервал правление Александра, когда политика окончательно ему наскучила.
Когда Михайло Илларионович Кутузов — ещё не фельдмаршал, но уже князь — прискакал на Бородинское поле осматривать позиции — над ним парил орёл. Заметив воинственную птицу, столь редкую в наших краях, старый генерал обнажил голову и крикнул: «Ура!», лукаво поглядывая на свидетелей этого действа. Он знал толк в символике и пропаганде.
Не успел этот сюжет попасть в газеты, а Державин уже написал оду «На парение орла»:
Мужайся, бодрствуй, князь Кутузов! Коль над тобой был зрим орёл, — Ты верно победишь французов И, россов защитя предел,
Спасёшь от уз и всю Вселенну…
Всё-таки некоторые рифмы история, как будто заранее, ещё до великих свершений, выводит золотом по граниту: «Полтава — слава», «Кутузов — французов».
Кутузов умел воодушевлять армию, — не забывая о двойной бухгалтерии и хитром покере. «С такими молодцами — и отступать?» — громогласно воскликнул он, зная, что великое отступление только началось и армию ещё предстоит приучить к невыносимой мысли: враг займёт Белокаменную.
Что это означало? С первых дней войны наш главный пропагандист, секретарь государя А.С. Шишков взывал к религиозным чувствам православных. Ещё громче звучал голос Церкви, которая в те времена, кроме прочего, выполняла функции Совинформбюро, сплачивала страну, призывала к сопротивлению, к неповиновению.
Великая армия ещё недалеко продвинулась на восток, ещё не встретила ожесточённого сопротивления, — а наполеоновские кавалеристы уже устраивали конюшни и спальни в церквях. В первую очередь воровали в храмах всё золотое и серебряное — выламывали, выковыривали всё, что можно продать. А уж в Смоленске и в Москве.
«Не доставайся злодею!» — так говорили крестьяне, предавая огню родные сёла. В Германии захватчики находили «и стол, и дом». Бюргеры рады были поживиться, снабжая Великую армию. В России иные традиции общения с агрессором. Горели амбары, магазины — и благодатной осенью Великая армия таяла от голода и болезней.
В Смоленске Наполеон надеялся втянуть русскую армию во второй Аустерлиц, а Багратион верил, что на этом рубеже можно остановить и обескровить врага.
В чём превосходство Наполеона перед другими полководцами того времени? Не только в революционной дерзости, не только в том, что он без колебаний раздувал мировые пожары, хотя, увы, инициативность агрессора гипнотически действует на консервативных политиков.
Наполеон искусно создавал численное превосходство на ключевых направлениях атаки. Действовал быстро, перегонял противника. Но первые сражения 1812 года показали: русские не уступают Великой армии.
Армия Багратиона героически отразила атаки корпуса маршала Даву под Салтановкой, где яростно сражался корпус Раевского, а французы потеряли почти вдвое больше русских. У Барклая отличился арьергард генерала Остермана-Толстого, задержавшего французов в боях при Островно. Это там, в тихом белорусском местечке, граф Остерман-Толстой на вопрос офицеров, попавших под обстрел французской артиллерии: «Что делать?» ответил: «Ничего. Стоять и умирать». И стояли. И не только умирали, но и противника истребляли и брали в плен.
Но снова приходилось отступать… Приходило отчаяние: неужели молитвы, подвиги, отвага — всё это было зря?!
Фёдор Глинка вспоминал: «Солдаты наши желали, просили боя! Подходя к Смоленску, они кричали: «Мы видим бороды наших отцов! Пора драться!»
Смоленск героически защищали корпус Дохтурова и дивизия Коновницына, сменившие воинов Раевского, а ещё — ополченцы, набранные по всем городам губернии. В Смоленске и Дорогобуже их