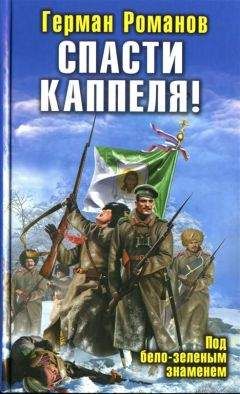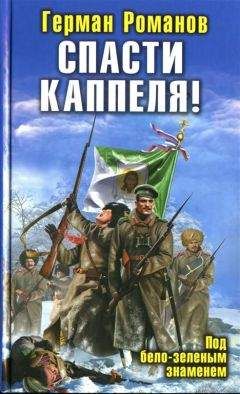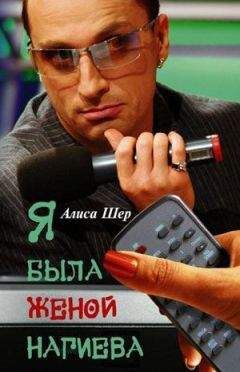Герман Романов
СПАСТИ КАППЕЛЯ! ПОД БЕЛО-ЗЕЛЕНЫМ ЗНАМЕНЕМ
Назарово (31 декабря 1919 года)
— Ох, и поддал ты парку, Сеня! Ох, как хорошо, полтора месяца не мылся! Жалко, что банька тесновата. Ноги на полке не вытянешь!
Бородатый мужчина лет пятидесяти зачерпнул деревянным ковшом из кадки холодной воды и вылил на покрасневшие от горячего пара плечи. Его можно было принять за обычного сельского мужика, но манеры явно говорили, что тот весьма образованный человек. И если хорошо присмотреться, то сразу можно скинуть и добрый десяток лет — борода сильно старит любого человека.
— Лучше на полке не вытянуть ноги, чем на ней их протянуть, Мики. — Моложавый мужчина лет тридцати пяти — тридцати шести, с небольшими светлыми усиками, забрал у бородача ковш, черпнул ладонью и смочил ледяной водой лицо. Клубы пара жгли тело, но это приносило неслыханное удовольствие.
— Ложись, мон шер колонель, сейчас я тебя веником отхожу по первое число. — Бородач осторожно, чтоб не обжечься, достал из кадушки запаренный березовый веник. Плавно взмахнул им, стряхивая с листьев горячие капли. И принялся хлестать по спине офицера, что удобно улегся на полке, — ему-то она как раз пришлось впору, ведь ниже бородача на голову.
— Ты это… Полегче, государь… Насмерть запорешь…
— Я щас деда Миша, какой я тебе царь! Переворачивайся на спину, барин, надо по фасаду пройтись. Вот так, Семен Федотович!
— Вот внуков заведешь, тогда и дедом станешь… Ой… Ты еще сына заведи… Жениться тебе придется, государь… Да не хлещи ты так больно!
— Скажешь тоже — жениться… Я пятый десяток давно разменял.
— Давно? В прошлом году, насколько помню. Ты в самом соку, Ми…
Офицер не договорил — по его ногам стали хлестать веником нещадно, потом бережно прошлись по груди, на которой проглядывались два шрама и застарелая строчка шва. И очень ласково веник затронул живот, низ которого, прямо под пупком, был покрыт багровыми рубцами и пятнами.
— Ничего не пойму, — тихо произнес мужчина, — почему шрамы от картечи все время розовые, ведь полтора года уже прошло. И совсем не изменились. Как тогда затянулись, при вспышке, так такими и остались…
— Я сам не пойму, Михаил Александрович. Будто током пронзило, яркий свет до сих пор перед глазами стоит.
— И помолодел ты за этот год изрядно, Сеня. Лет десять скинул…
— Так я и этого, и того времени человек. Одна моя половина тогда исчезла, но другая-то здесь осталась. До сих пор непонятно. Вот и подумываю с того дня, что не зря так сложилось. Мне в сорок третьем такой же год пошел — ровесник века я. Сейчас, в девятнадцатом, вроде молодость снова пришла.
— Среднее арифметическое?! — задумчиво протянул Михаил Александрович. Посмотрел еще раз на багровые, но полностью зажившие рубцы и задумчиво протянул сквозь зубы, стараясь не глотнуть горячего воздуха.
— И такое возможно. На свете много есть интересного…
— Друг Горацио, — добавил Семен Федотович и, кряхтя, поднялся с лавки. — А теперь ты ложись, Михаил Александрович, послужу царю-батюшке. Разделаю тебя сейчас, как бог черепаху, в камбалу расплющу…
«Расплющить» не удалось, но отхлестал полковник Фомин последнего российского императора на совесть, не пожалев сил и двух березовых веников. Потом они тщательно обмылись, мысленно благодаря судьбу. Ведь за шесть недель похода каким-то чудом вшей не подцепили, а вместе с ними и тифа, что целыми батальонами буквально выкашивал отступающую вдоль линии Транссиба колчаковскую армию…
Хорошо помывшись, всласть, они выбрались в маленький предбанник, забрав с собой керосиновую лампу, еле светившую тусклым язычком пламени. Вытерлись хозяйскими рушниками насухо, взяли с лавки по паре чистого белья и неспешно облачились в него.
— Последняя, — вздохнув, сказал Михаил Александрович и усмехнулся. — Раньше я даже не замечал этого и не думал, что белье играет важную роль.
— Предпоследняя, — поправил Семен Федотович, — так что можно еще неделю походить. Хозяйку для стирки я снарядил, до утра за печкой просохнет. Так что три пары у нас будут.
— Живем! Как много теперь чистые подштанники значат!
— Еще бы! Ну, надо идти, государь, а то штабным тоже помыться хочется. Они, бедные, по трое забиваться будут, утром нам опять версты мерить.
Тихо переговариваясь, они быстро облачились в потрепанные английские френчи с синими погонами. Фомин носил свои штаб-офицерские, в два просвета, пустые, без звездочек. А вот великий князь поскромнее, где на просвет было меньше, зато четыре звездочки пирамидкой выстроились.
Накинув на плечи шинели и нахлобучив папахи, Михаил Александрович и Семен Федотович вышли из бани и побежали к дому. Миновав сени, они сразу окунулись в непередаваемую вонь немытых вечность тел, грязных портянок, пороховой копоти и давящего чувства безысходной усталости.
В неширокой зале — центральной комнате с большой русской печью посередине — вповалку спали уставшие от продолжительного марша офицеры и солдаты, уткнувшись носами в полушубки. У всех на плечах были такие же синие погоны с белыми литерами «Иж» и «Втк».
От печи шли две двери — в правой комнатушке, запечной, или кутьи, как ее называли в Сибири, расположились хозяева. Большая семья — «сам», здоровенный мужик с седоватой бородой с лопату, его жена с большими натруженными ладонями и пронзительно-синими, вечно виноватыми глазами плюс целый выводок детей и внучат от двадцати до грудничков.
Как эта орава в кутье разместилась — уму не понять. Но вели себя хозяева тихо — ни шороха, ни звука, даже детки молчали, напуганные прибытием вооруженных до зубов служивых. В небольшой светлице, с левой стороны печи, расположился на ночлег штаб. Комнатка была полностью заставлена тремя кроватями, шкафом, сундуком и маленьким столом из струганых досок. Сейчас она пустовала — никто сюда не заходил.
И не могло быть иначе — так завсегда размещался штаб знаменитой Ижевско-Воткинской дивизии. Командир генерал-майор Молчанов Викторин Михайлович отсутствовал, привычно проверяя обустройство своих частей на ночлег. Вместе с ним ночевали только они двое — начальник штаба полковник Фомин и его первый помощник великий князь Михаил Александрович, что был известен в дивизии под псевдонимом «штабс-капитан Михайлов».
Дивизия была больше по названию, а по численности равнялась бригаде — пять дней назад понесшие большие потери полки по настоянию Фомина свернули в батальоны, а последние в роты. Но и в таком урезанном ИВД была сильнее трех любых дивизий отступавшей колчаковской армии, вместе взятых. Только штыков в ней имелось пять тысяч — и каких штыков!
Ижевские и воткинские рабочие знали, за что воевали. Красная пропаганда, напрочь разлагавшая сибирские дивизии, сформированные из насильно мобилизованных крестьян, на них совершенно не действовала. А обещаниям советской власти, которая год назад безжалостно подавила ею же и вызванное восстание, они наотрез отказывались верить. Полтора года воевали ижевцы и воткинцы почти без перерывов — не зная усталости, без дезертиров и трусов, выполняя самые трудные задачи. Но держались особняком. Даже погоны были отличными от других — синими. Этот цвет для них символизировал железо и сталь оставленных под напором красных родных заводов.
Михаил Александрович и Фомин сжились с рабочими за это время, даже породнились. Ходили в атаки, отбивали яростные штурмы красных на окруженные заводы, разделили горечь прошлогоднего декабрьского отступления, когда голод с холодом выкашивал работный люд с женами и детьми во сто крат страшнее, чем красные пули и снаряды.
«Внутри» тайна императора продержалась недолго, но что самое удивительное — рабочие сохраняли ее «снаружи», насколько это было возможно в условиях войны. Попытки цареубийства, предпринятые красной разведкой, были пресечены ими на корню. Связанные общими узами ижевцы и воткинцы с подозрением относились к добровольцам, желающим вступить в дивизию. Это переносилось и на офицеров, ведь своих, доморощенных, было не просто мало, а катастрофически не хватало.
Но только немногие из них смогли завоевать полное доверие рабочих — за ними теперь шли безоглядно. Это и генерал Молчанов, полковники Юрьев и Фомин, подполковники фон Вах, Федичкин, и Ефимов. И все — более старших офицеров в дивизии не имелось. Потому и свернули ее в бригаду — начсостава едва хватило на укомплектование батальонов, зато по немыслимым сейчас полным довоенным штатам в тысячу штыков.
Но Ижевско-Воткинская дивизия была исключением из правила, в других же частях офицеров и солдат имелось чуть ли не поровну — дезертирство, сдача в плен малодушных является приметой любой гражданской войны. Оставались только самые стойкие духом, те, что осознанно пошли воевать против большевиков. Вот только драться всерьез никто из них, за исключением волжан, уральцев и уфимцев, сейчас не мог — тиф косил солдат страшнее пулеметов. Части были перегружены транспортами с больными и семьями, превратившись в огромные неуправляемые обозы. Как тут воевать?! Но не только это давило на армию — угнетающими были известия, что в Красноярске и Иркутске произошли эсеровские восстания, и теперь нужно было не отступать, а пробиваться с боем на восток, до спасительного Забайкалья, где утвердились части атамана Семенова и японцы…