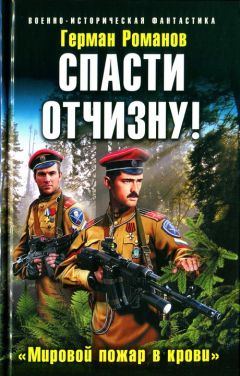Вспомнив о столице, Вощилло невольно загрустил. Не скоро удастся побывать в любимом детище Петра, ибо сейчас там заправляют красные. А летчик любил Санкт-Петербург всем сердцем и не воспринимал его новое название Петроград, данное в 1914 году на волне германофобии.
Капитан бережно сложил листок бумаги с приказом, засунул в карман офицерского френча. Красноармейскую форму с цветными «разговорами» сибиряки категорически отказались надевать. Хватит с них того, что погоны с кокардами сняли, хотя бело-зеленые угольники с рукавов не отпороли.
Впрочем, в последнее время комиссар отряда, слесарь из московских авиационных мастерских, несколько раз настоятельно намекал, что было бы неплохо летчикам и техникам погоны надеть. Мол, раз в Сибирской армии служите, а там сейчас вроде как союзная большевикам «демократия», то нужно и знаки различия носить соответствующие. Да и посетивший вчера авиаотряд важный чин, из бывших офицеров, с двумя ромбами комдива, тоже настоятельно просил переодеться к смотру, что будет проводить сам командующий фронтом молодой Михаил Тухачевский, бывший поручик императорской лейб-гвардии.
Вощилло мягко отказался от назойливого предложения, сославшись на отсутствие уставной сибирской униформы. Капитан хорошо помнил тайный приказ, отданный военным министром, — погонами и кокардами не щеголять, а носить красноармейские знаки различия.
Пилот скосил взглядом на рукав, усмехнулся — три «кубаря» пламенели под большой пятиконечной звездой. Выслужился крепко, большой чин имеет в Красной армии — командир батальона или дивизиона, что соответствует подполковнику или майору в худшем случае. Только не радовали сердце эти знаки, носил их, как и все сибиряки, с тщательно скрываемым омерзением.
Но куда деваться прикажете бедному сибирскому капитану — попала собака в колесо, так пищи, но беги. Тем паче сегодня смотр, который будет проводить «красный маршал»…
— Рад тебя видеть, Константин, — Вощилло протянул руку подошедшему плечистому краскому с двумя орденами на красных розетках и синими кавалерийскими «разговорами». Старый знакомый, тоже «сибиряк», на другой линии фронта тогда находился, да в плен попал — товарищ Рокоссовский. Рукопожатие было крепким.
— И я рад видеть, Миша. Позволь поздравить с высокой наградой трудового народа.
— Взаимно. И тебя, как я вижу, со вторым орденом поздравить можно. — Вощилло говорил с радушием, хотя внутри все клокотало. Он еле сдержался, когда ему привинчивали пролетарскую награду на грудь.
Но дипломатию пришлось соблюдать со всем политесом, хотя голова кругом пошла. Трудно было раньше даже представить, что рядом с зеленым крестом «За освобождение Сибири», полученным в рядах «белой гвардии», будет привинчен орден Боевого Красного Знамени.
Иркутск
— Ни за что! Я с ума не сошел…
— При чем здесь это, Мики? — Арчегов улыбнулся, глядя на багровые пятна, которыми покрылся монарх, неправильно понявший его предложение. Да уж, в Первопрестольную теперь не то что царя — премьера Вологодского танковой буксирной цепью не затянешь.
Хватило Петру Васильевичу за глаза большевистского гостеприимства. И дело не в пулеметах, а в тех наркомовских пайках, что позволяли себе захватившие власть победители в голодающей стране. Сразу припомнилось унылое лицо Троцкого, когда тот генералу поведал, что икра в горле стоит, налопался он ее, «бедный», за три года диктатуры пролетариата. Да и другие наркомы тоже «оголодали» изрядно, одной осетринкой порой постились от отвращения к плодам земным.
И правильно — для кого ж революцию делали, голодовать самим, что ли, родимым, прикажете?!
Зато потом сказок понаписали коммунистические борзописцы — как с превеликим трудом Ленину в Москве один лимон нашли, будто не ведали, что на Хитровке продавали все, что только в голову могло бы взбрести — от рябчиков до ананасов.
Как несколько раз терял от голода сознание нарком продовольствия Цюрюпа — видно, продотряды хлебушка с крестьян не смогли собрать?! Или сусальный образ Дзержинского приукрашивали, целое сказание написав о картошке с салом, кою чекисты с превеликим трудом уговорили «железного Феликса» съесть. Константин в мае даже засомневался, подумав, что в том, прочитанном в детстве, рассказе была некая доля правды. Глава ВЧК здорово подсел на кокаин, а сей дурман аппетит отшибает напрочь, недаром высох как Кощей, только глазами зыркает…
— Ты с Виктором Николаевичем к большевикам все же поедешь? Когда думаешь отправляться?
— Через пару дней, не позже. И с тобою!
— Ну уж нет! Я уже сказал! — Михаил Александрович протестующе помахал ладонью, демонстрируя всем видом, что поездка на запад его ничуть не привлекает.
— А придется, Мики. Без всяких шуток!
— Зачем?
— Мы с Пепеляевым в Москву переговоры вести, а тебе до Оренбурга, а там до Гурьева по Уралу спустишься до самого Каспийского моря! А там на канонерской лодке пойдешь до Петровска. Тебе, государь, необходимо быть в Екатеринодаре и Симферополе. Весь Кавказ нужно объехать. Миротворцем выступишь, да ретивых унять надобно.
— Вот оно что… — задумчиво протянул монарх и пристально посмотрел на Арчегова. Тот правильно понял этот вопрошающий взгляд и, скривив губы, пояснил:
— Худо там, генералы сцепились, как пауки в банке. Задавить на корню нужно, иначе бед не оберемся. Эх… — Военный министр огорченно взмахнул ладонью, даже пристукнув ею по дубовому столу. Лицо генерала гневно исказилось, длинно, в три загиба, он вычурно выругался.
— Так плохо?
Михаил Александрович внимательно посмотрел на молодого друга. Таким расстроенным он Константина Ивановича видел редко — за последние десять дней генерал наконец перестал скрывать от него и свои эмоции, и реальное положение дел.
— Ты не представляешь! Мы чудом держимся, а эти недоумки в погонах с зигзагами так ничего пока и не осознали. Хуже того — что-либо понять они просто не в состоянии. От жопы отлегло, прости меня за такое слово, так тут же за старые дела принялись. Здесь, в Сибири, мы эту сволочь почистили капитально. Да, не хмурься — я сказал то, что сказал. Именно сволочь, если не назвать этих недоумков еще хлеще. Они красной пропаганде только на руку играют, до сих пор ничего не поняли, их революция ничему не научила — нет к прошлому возврата, нет! И никогда не будет! Россия иной стала, а потому не хрен в загнившие бочки новое вино наливать!
Арчегов побагровел, последние слова чуть не выкрикнул с ненавистью, сжав до хруста кулаки. Но усилием воли задавил гнев и взял себя в руки. Заговорил намного спокойнее: