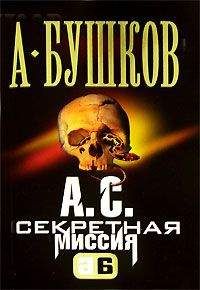– Господи ты боже мой, – сказал Пушкин. – У вас то же самое…
– Я отплыл в Европу следом за ним. Мой друг, знавший «Гордона» по Италии, как раз и определил, с кем мы имеем дело…
– И где же ваш друг?
– Он погиб в Венеции, – сказал По. – Тогда мы чуть-чуть его не настигли… но мой друг погиб, а я уцелел чудом. Я его преследовал по всей Италлии. Поехал в Англию, и там мы ночью вскрыли склеп, после чего никаких сомнений не осталось. Мне донесли, что его видели во Флоренции. Я бросился туда, но он уже покинул Тоскану. След вел в германские государства, а оттуда я приехал, всегда чуточку отставая, в Петербург. И вот теперь он тут. – Молодой американец указал на освещенные окна невидного домика.
– Ну что ж, в последнем сомневаться не приходится… – сказал Пушкин задумчиво. – И что вы намеревались делать?
– Ничего особенного. Посмотреть, не возьмет ли его серебряная пуля.
– А если – нет?
Юноша упрямо сказал:
– Тогда попробую что-нибудь еще. Нужно же его загнать назад в ту тьму, которая его извергла…
– Вот в этом я с вами совершенно согласен…
– Вы мне верите?
– Мне трудно верить, а это совсем другое… – сказал Пушкин. – Но так уж случилось, что ваш рассказ во многом совпадает с моими собственными приключениями, а это заставляет отнестись к нему серьезно…
Он резко обернулся назад, поднимая пистолет, но тут же опустил его, выругавшись:
– Мать твою в рифму… Тимоша, мог ведь и пулю схлопотать за здорово живешь…
– Простите, Александр Сергеич, – покаянно протянул сыщик. – Только жутко стало торчать там одному, в темноте и совершеннейшем безлюдье, да вдобавок казалось, что по углам кто-то мохнатый шмыгает, и не один, и глаза светятся… Лучше уж я с вами. На миру и смерть красна.
– Ты не накаркай, лампурдос, не накаркай, – сердито сказал Красовский. – Ну что ж, господа? Не будем же мы здесь торчать до рассвета, пусть даже и обмениваясь интересными, согласен, впечатлениями? Не потрогать ли нам черта за хвост? А там уж разберемся, который он по счету лорд, и лорд ли…
Пушкин машинально потрогал кольцо на пальце, как обычно казавшееся самую чуточку теплее, чем ему положено было быть. Сказал раздумчиво:
– Собаки там, по-моему, нет, я не слышал, чтобы брехала, когда немец стучался в калитку…
– Да откуда ж там собака? – сказал Красовский. – Собачки, создания божьи, энтих не любят… Не может у него быть собаки, он сам похуже собаки… да и, надо полагать, поопаснее.
– Пойдемте, – сказал Пушкин. – Попробуем пробраться во двор незаметно, а там, осмотревшись, и рискнем, благословясь… – Он обернулся, присмотрелся к самому ненадежному звену в цепочке. – Тимоша, ты уж, мил-друг, изволь оставаться здесь. Толку от тебя там не будет, чувствую, а так, при нужде, хоть полицейских покличешь… хотя и сомневаюсь я, что нам смогут помочь чем-нибудь господа петербургские будочники… Идемте.
Переступая на цыпочках, они двинулись вперед и вскоре достигли забора из скверно оструганных досок. Забор, хотя и сколочен добротно, все же кое-где зиял щелями. Приложив к одной глаз, устроясь поудобнее, Пушкин увидел небольшой пустой дворик, низкое крыльцо и два окна, от которых на поросшую бурьяном землю ложились два прямоугольника тусклого света. Передвинувшись правее, он достиг калитки, ухватил крайнюю доску тремя пальцами левой руки и тихонечко потянул на себя, молясь в душе, чтобы не скрипнула.
Калитка послушно отошла, почти не производя звуков. Судя по тому, как она подавалась, на другой стороне не имелось ни щеколды, ни крючка, не говоря уж о засове. Обитатели домика проявляли совершенно не свойственную жителям окраин этого города беспечность. Уже сделав шаг во двор, он подумал, что это может оказаться и засадой, но другого выбора не было…
Двигаясь так, чтобы не попасть в полосу тусклого света, он приблизился к окну – чей верхний край располагался низко, на уровне его подбородка – и, пригнувшись, заглянул внутрь. Рядом примостился Красовский, явственно посапывая носом от азарта, а молодой американец встал по другую сторону.
Заглянув внутрь, Пушкин невольно отшатнулся. Сидевший за убогим столом человек был как две капли воды похож на портреты Мрачного Романтика, которого он считал своим учителем в поэзии: то же лицо, поворот головы, кудри…
По обе стороны от него горели свечи в старомодных нечищеных шандалах. На столе перед ним лежали какие-то бумаги, более всего похожие на небрежно выполненные чертежи – ага, те самые, никаких сомнений! – на бумагах, лицом к сидящему, покоился череп – без нижней челюсти, темно-желтый, долго пролежавший, надо полагать, в земле и извлеченный совсем недавно: прекрасно было видно, что бумаги усыпаны землей, кое-где прилипшей комьями к затылку и вискам.
И что-то дымилось тут же в причудливой невысокой курильнице, причем черный дым не растекался по комнате, как ему полагалось бы согласно законам природы, а стоял едва заметно колышущимся столбом, напоминая султан на гусарском кивере. И по стенам маячили странные тени – совершенно непонятно, кто или что их отбрасывает, в комнатушке вроде бы не видно ни одной живой души, кроме сидящего за столом, а впрочем, если поверить господину По, то и двойника великого поэта отнести к живым душам можно исключительно с превеликой натяжкой…
Что-то свисало с потолка на манер то ли толстой паутины, то ли рыболовных сетей – переплетение странной черноты, то ли устойчивый дым, то ли просто клочья мрака, и там, где они пересекались, светился тускло-зеленый гнилушечий свет.
Наклонившись вперед, сидящий за столом громко и внятно произнес что-то – сквозь стекло не удалось расслышать, на каком языке. В ответ ему раздался другой голос, гораздо более высокий, шуршащий какой-то, перемежавшийся противными скрипами, словно терлись одна о другую полусгнившие доски. И Пушкин ощутил ледяные мурашки по всему телу, сообразив, что второй голос может исходить исключительно от черепа…
Если по совести, больше всего ему хотелось выскочить в калитку и бежать опрометью с Васильевского острова, пока не окажется среди обычных людей и знакомых зданий. Но он переборол себя, обернулся к спутникам и сделал выразительный жест в сторону крыльца. Они кивнули в знак того, что поняли.
И настал тот миг, когда ничего уже нельзя изменить и приходится, несмотря на страхи, идти в атаку…
Когда он рванул ручку на себя, низкая дверь отчаянно заскрипела, но это уже не имело значения – и Пушкин первым ворвался сквозь низкие темные сени, где по лицу его неприятно погладило нечто невесомое, липковатое, пушистое, свисавшее с потолка, а из-под ног с писком и, кажется, с хрюканьем разбежались по углам какие-то мелкие твари, так и оставшиеся неопознанными.