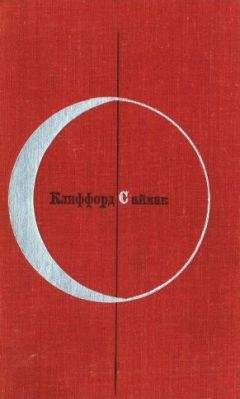подполковник, но будить его я не стал.
Все генерал-губернаторство и Германию мы беспробудно проспали, и только за
полчаса до Берлина нас разбудил звонко-мелодичный голос проводницы. Из-за
разбирательств со Сванидзе и прочих задержек выбившегося из графика поезда, мы
опаздывали уже на полтора часа. Среди мягкой предрассветной седины снегов за
окном мелькали маленькие фермы, перелески, одинокие кирхи, в которых служили
Вотану, Тору и Бальдуру. Пелена снегопада делала все вокруг мчащегося поезда
сюрреалистичным.
Степану Викторовичу приснился недобрый сон, и он сидел хмурый (он к тому же
обнаружил ряд важных пробелов в своём немецком и лихорадочно пролистывал
разговорник). Подполковник, наоборот, был в прекрасном расположении духа и
рассказывал о своих приключениях в прошлые поездки:
— Вы знаете, в Бунцлау до сих пор сохранилась могила Кутузова. Я там был два
года назад. Обнесена бордюром и очень много цветов…
— А вы где воевали? — поинтересовалась жена реэмигранта.
— Разумеется, в Индии, — пожал плечами тот, — в этой черной дыре советского
оружия. Мы собирались покорить Индию еще при Павле I, в начале двадцатых туда
звал Троцкий. И вот, наконец, мы там оказались. Индусы, видите ли, как и все
азиаты — себе на уме. Договариваться с ними столь же перспективно, как и
договариваться с тюленями. Конечно, забавно рассматривать индийских девчонок в
ночных барах и украшать свои квартиры индийскими статуэтками. Но могу лишь
сказать одно: наши позиции в индийских странах столь же призрачны, как и
пятьдесят лет назад. Сам черт не разберет, сколько в Индии народностей, а каждая
народность имеет дюжину национальных проблем. Поддерживаем Синд против
Раджастхана, потом Раджастхан против Гвалиора, а там надо мирить сикхов и
мусульман в Пенджабе. На юг Индии мы уже давно рукой махнули, там немцы да
ниппонцы соперничают с США.
Отправляясь в дорогу, я основательно изучил карту Берлина и окрестностей, и
теперь с минуты на минуту ожидал появления слева от движущегося поезда водной
глади Шпрее, но она пряталась за густыми стволами безлиственных деревьев и
неожиданно блеснула, когда мы увидели первые строения Большого Берлина — район
Рансдорф, затерявшийся среди лесничеств Мюггельского озера. Здания напоминали
те, что я видел в Ленинграде, только более массивные, монументальные и мрачные.
Правда, летом все это должно было утопать в зелени многочисленных раскидистых
деревьев. По улицам ездили машины, ходили трамваи, спешили на работу берлинцы.
Промелькнуло несколько платформ пригородных поездов, на одной из которых я успел
прочесть название — "Кёпеник". Где-то вдали мелькал между домов расписной шатер
передвижного цирка. Проводница вернула билеты — я получил свой. На одной стороне
маленького картонного ярлыка под серпом и молотом был указан рейс, тип вагона,
место, дата, время и постскриптум: "Добро пожаловать в Тысячелетний Рейх", на
другой — под свастикой — то же самое по-немецки.
Пока я рассматривал билет, мы промчались через Карлгорст и оказались в более
изящных дореволюционных кварталах (я имею в виду национал-социалистическую
революцию 1933 года). И тут же экспресс нырнул в бесконечный слабоосвещенный
Руммельсбургский тоннель, тянущийся на добрые два километра. Когда мы наконец
вынырнули в ослепивший всех дневной свет, слева и справа выпрямилась
Варшавер-штрассе, по которой неторопливо полз экскурсионный омнибус.
Готтенландский (быв. Силезский) вокзал был уже рядом — замелькали перила,
лавочки, ожидающие.
Немец-проводник еще раз проверил документы, и мы стали выходить. Я едва успел
выйти из вагона, как тут же заметил маму — она в длиннополой дубленке и меховой
"боярке" спешила ко мне по забитому людьми перрону. Она приветствовала меня
по-русски:
— Ну, как доехал?
— Да вот… — развел я руками.
Несмотря на все наши с Вальдемаром опасения, она не заметила подмены. Видно, не
правы те, кто приписывает женщинам некую особую интуицию. В первый момент меня
так и тянуло сознаться, но я сдержал себя, и не напрасно.
— Сейчас мы к нам домой. — продолжала она, проталкивая меня через толпу. —
Вечером у нас званый ужин. Будут Отто, Свава, Харальд…
В Берлине я не бывал отродясь, и все глазел по сторонам. Добрая половина
прохожих была в шинелях: синих, черных, серых, коричневых — под цвет мундиров их
ведомств. Здесь было на порядок теплее, чем в замерзшем Ленинграде. Линейная
немецкая речь господствовала над отдельными польскими и русскими фразами.
Тачечники (тоже в особой форме) катили огромные телеги, наполненные
"старомодными" чемоданами (американоидные рюкзаки — завсегдатаи вокзалов моего
мира — здесь были явно не в моде). На фронтоне вокзала (он был реконструирован в
середине пятидесятых) аршинными готическими буквами было выложено:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ РЕЙХ!
В ближайшем киоске я успел разглядеть множество видеокассет и бронзовые бюсты
Гитлера и Геббельса.
Мама без устали рассказывала о своей жизни, о том, как зимой они с полковником
отдыхали на Ривьере, что Харальд в апреле принимает присягу и отправляется
служить в Хорватию и т. д. и т. п. На ее вопросы я отвечал односложно, что весь в
работе над дипломом, что стипендию нам повысили, что Виола чуть ли не ночует в
Петергофе (она пишет дипломную работу об архитектуре Петергофских ансамблей и
влиянии на нее философии ХVIII века). На мое счастье мама не спросила меня,
скоро ли ей ждать внуков: она, видно, не очень-то спешила становиться бабушкой.
На привокзальной площади нас ожидал огромный БМВ, принадлежащий полковнику.
Шофер приветствовал меня кивком, погрузил мой баул в багажник и спросил меня
что-то по-немецки. Я в первый момент ничего не понял и пробормотал в ответ
что-то невнятное, но тут же догадался, что меня спросили о том, правда ли в
Ленинграде (он называл его Петербургом) сейчас такие лютые морозы, и понял, что
теперь мне и думать придется исключительно по-немецки. Я сбивчиво отвечал, что
правда, морозы стояли лихие, но в день моего отъезда слегка потеплело. Мама
напомнила мне, что в Германии она говорит со мной только по-немецки, и мы
помчались по утренним улицам германской столицы.
Вначале мы оказались на довольно непримечательной Гроссфранкфуртер-штрассе,