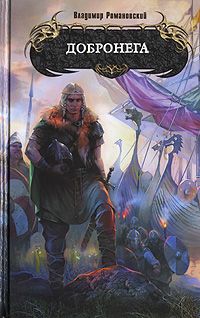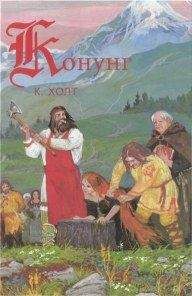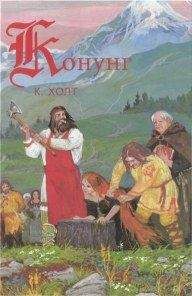Всю ночь они шли, дрожа от холода, не смея остановиться, и не зная, как далеко еще нужно идти. Когда начался рассвет, они увидели, что идут не на запад, но на северо-запад, и, поспорив немного о географии и астрономии, все-таки сменили направление. Погони не было. Ветер стих. Потеплело.
— Нет уж, с печенегами больше не связываемся, — сказала Светланка. — Дикий народ.
— Может, обратно к Диру? — спросила Анхвиса.
— Вот еще! Во-первых, он нам никогда не простит, что мы от него ушли. Сделает только вид, а потом всю жизнь пилить будет и насмехаться. И издеваться. А во-вторых, с ним опять нужно будет мотаться по весям, надоело. Нужно найти богатого домоседа, ласкового. У меня есть один на примете, в Киеве. Мы ему понравились как-то, он целый день с нас глаз не спускал. Не помнишь?
— Нет.
— У тетки Доробы.
— А! Кряжистый такой?
— Точно. Не слишком большого ума, и это хорошо, и он, вроде бы, добрый. И дома устраивает всякие вечеринки, приемы. Вот было бы здорово, а? Просто охвоительно было бы. Ну, если подвернется кто из знати, тогда еще лучше.
— Дир был из знати.
— Да ну тебя! Дир и Дир. Какая это знать — ростовская! Знать бывает в Киеве. На худой конец в Новгороде.
— Эти, пожалуй, на нас не позарятся, — объяснила Анхвиса.
— Это почему же?
— Ликами мы не вышли. Ты межиха, а я из полей-лесов. Морды у нас не знатные.
— Дура ты, Анхвиса. Не в морде дело, а в одежке.
— Сомневаюсь. Вот, помню, видела я богатую одну бабищу. Да, кстати, у той же тетки Доробы. Разодетая, расфуфыренная — Добронеге не снилось. Все на ней дорогое, камешки-сережки так и сверкают. А видно, что из простых. Сидит себе, как квашня, с ней заговаривают, а она стесняется и грудь свою мнет. А почему? Ликом не вышла. Лик очень простой.
— Лик от окружения зависит. Когда лик привыкает к окружению, — поучительно сказала Светланка, — он сам меняется, подделываясь под окружение. Ну да ладно, дойти бы до селения какого-нибудь, не упасть бы по дороге да не околеть.
— Это да, — согласилась Анхвиса, стуча зубами.
Они одновременно остановились и бросились друг другу в объятия.
— Бедные мы с тобою бедные, — запричитала Светланка. — Несчастные, неприкаянные.
— О-хо-хо-хо, — подвыла Анхвиса.
Они поплакали и пообнимались еще какое-то время, а затем продолжили путешествие. До селения они дошли.
— Подведем же итоги, сын мой, — сказала Рагнхильд, повернувшись по обыкновению профилем к собеседнику. — Тиран мертв, дети его в ссоре, любимый сын, которого он хотел сделать своим наследником, тоже мертв, ты правишь в Новгороде, пока только от имени Ярослава, но Неустрашимые признают в тебе равного.
— Более того, матушка, — ответил Житник, улыбаясь.
— Вот как? Ты можешь влиять на их решения?
— Еще лучше.
— Ты хочешь сказать, что ты — их лидер?
— Да.
— Тебя избрали?
— Совершенно законно. По законам Содружества.
— А что сталось с Эймундом?
— Он впал в немилость великую.
— Не без твоей помощи.
— Признаться, да. Что делать! Таков жребий властителей.
— До меня дошли какие-то темные слухи о смерти тирана. Будто бы его долго не показывали народу, хоронили в закрытом гробу, а в Киев доставляли закатанным в ковер в санях.
Житник улыбнулся.
— Какие сани летом? — настаивала Рагнхильд.
— Не обращай внимания, матушка. Издержки производства слухов. И ковер и сани действительно были. Но не в случае Владимира.
— Что за сани?
— Стояли сани под полом. Но лошадей в них не запрягали, конечно же.
— Хорошо. Далее. Что думает Ярослав?
— Не знаю. Это уже не важно. Новгородом владею я. А Святополк владеет Киевом.
— Да, жалко Святополка. Ты все-таки очень жесток, Житник.
— Нет, просто практичен. Весь в тебя, матушка.
— Что ж. В этом месте мы скорее всего видимся последний раз. Как переместимся, я дам тебе знать. Теперь это менее опасно. Езжай, и да хранят тебя боги.
Она повернулась к нему. Ему вдруг пришла в голову мысль что, возможно, мать его вовсе не слепа, но притворяется слепой.
В Новгород Житник возвращался в глубокой задумчивости. Ярослав стал опасен.
Они дружили ранее, шутили, много путешествовали вместе, доверяли друг другу свои секреты. Ему казалось, что он знает все слабости новгородского посадника. Он, Житник, возвысился благодаря Ярославу, правил в городе от его имени, и совершенно не рассчитывал, что в слабом, нерешительном, брезгливом себялюбце, любителе редких фолиантов и одиночества, проснуться вдруг амбиции. Что он вдруг сам поедет в Киев — улаживать разрыв с отцом, к которому его все это время толкал Житник. Что под Киевом он натворит дел. И даже, кажется, узнает, что сам Житник тоже в Киеве, и тоже активен. И даже воспротивится этому. Что ж. Он сам напросился. И он получит сполна. Его не устраивала роль дорогой игрушки, за которой присматривают и с которой сдувают пылинки — пусть познает, что на самом деле есть жизнь в большой политике. Ни знание, ни жизнь не будут недолгими. Сам виноват.
В детинце Житник узнал, что Горясер дожидается его вот уже третий час.
Войдя в палаты, Житник кивнул Горясеру, скинул слегнкаппу, уселся на ховлебенк, и сказал:
— Ну?
Горясер — небольшого роста, юркий молодой человек, улыбнулся наглой улыбкой.
— Привез я вести, господин мой, — сказал он. — Интересные вести. Дорогие вести.
— Ты получишь столько денег, сколько заслуживаешь, — откликнулся Житник. — Не помню, чтобы я когда-нибудь проявил скупость, когда дело касалось твоих услуг. Ты просто негодяй и вымогатель. Говори, что за вести.
— Под Киевом наступило что-то вроде перемирия.
— Вот как?
— Святополк и Болеслав вернулись в город и там хозяйничают, и, надо отдать им должное, весьма неплохо. Один из первых приказов Святополка — об устройстве публичных нужников и системе стоков.
— Ну да?
— Брезглив Святополк. А Болеслав меж тем строит монетный двор. Собирается чеканить монеты, и, поговаривают, со своим профилем. То есть, он себя считает полновластным хозяином города, а Святополка держит при себе просто из жалости.
Житник улыбнулся. Если это действительно так, то Болеслав еще более наивен, чем он, Житник, предполагал. Детей Рагнхильд недооценивать не стоит — как он, Житник, убедился на собственном опыте.
— Еще что?
— По слухам, Марьюшка завела себе нового любовника. Из какого-то знатного рода. Кажется, Моровичи.
— Моровичи? Я знаю многих. Как зовут любовника?
— Доказательств, что он действительно ее любовник, пока что нет. Зовут его Гостемил.
— Знаю такого. Не может быть. Он разве в Киеве?
— Да.
— Удивительно. Более убежденного домоседа я никогда не видел. Если это тот же самый Гостемил, которого знаю я, ему должно быть чуть за тридцать.
— Да.
— Ты видел его?
— Издали.
— Каков он собой?
— Высокий, стройный, надменная осанка, волосы светлые, нос с горбинкой, рот маленький.
— Похоже. Как меняются люди! Стало быть, надоело ему в Муроме, и решил он… Ладно, придется спросить у Неустрашимых. Что еще?
— В Киеве объявился новый городской сумасшедший. Говорит, хоронил Бориса безвинно убиенного. Убили его братья собственные, власть деля, а он его сам хоронил в Вышгороде, а Борис перед смертью очнулся и сказал ему, что хочет видеть Глеба, а ему сказали, что Глеб убит, и Борис заплакал и снова умер.
— Кто ему платит?
— В том-то и дело, что, вроде бы, никто. Я порасспрашивал народ, говорят это какой-то морковник.
— Мы заплатим морковнику и он будет говорить более связно, только и всего. Еще что?
— Ярослав покинул Любеч и едет.
— Домой?
— Нет. В Швецию.
— Что он там забыл?
— Смотрины. Он собирается там жениться.
— Ярослав!
— Да.
— На ком?
— На дочери конунга.
— Правильно, именно это я и хотел ему предложить. Но почему он не посоветовался со мной?
Горясер засмеялся.
— Что ты гогочешь, подлец? Говори.
— Он тебе больше не доверяет, господин мой.
— Совсем?
— Совсем. И когда вернется в Новгород…
— Договаривай.
— Будет трудно. Тебе.
— Что ж. Придется прибегнуть к убеждению.
— Если он не прибегнет к нему раньше тебя.
— Не посмеет, — заверил его Житник. — Кто едет с ним? Сейчас ты за ними последуешь.
— Не проси.
— А?
— Не последую, — сказал Горасер. — В городе — пожалуйста, сколько угодно. А в междугородье — слишком много открытых пространств, а вокруг Ярослава слишком много упрямого народу. Ты это знаешь, недаром ведь спросил — кто едет с ним.
— Кто же?
— Во-первых, небезызвестный Жискар.
— Вот ведь сволочь какая франкская! Кто еще?