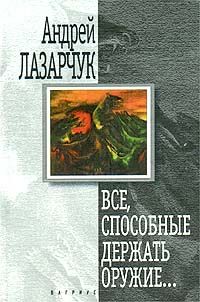Меня обдало жаром. Тарантул танцевал и самозабвенно созерцал свои мелькающие ноги. Пятясь и раздвигая народ плечом, я выбрался из толпы зрителей. Сунул на первый попавшийся столик опустевшую кружку и с одной, последней, в руке вышел на улицу. По глазам, как плетью, ударило светом. Жмурясь и пережидая, когда иссякнет, наконец, это нестерпимо-розовое сияние, я стоял неподвижно, и кто-то проходил мимо меня, аккуратно огибая внезапную преграду. Потом я открыл глаза.
Наверное, сказалась дикая, дичайшая усталость, и четыре кружки очень хорошего пива на давным-давно пустой желудок, и внезапный удар по нервам… Я очень отчетливо, даже слишком отчетливо видел все перед собой: сильно чадящий зеленый штабной автобус, и стайку мальчишек лет четырнадцати на противоположном тротуаре, и сапера, оседлавшего маленький велосипед и виляющего наискось Через дорогу… и в то же время меня будто бы отбросило на несколько часов назад, на крышу «Гамбурга», и я с двухсотметровой высоты… не могу сказать, что я понял, но я увидел, охватил одним взглядом все, что происходило и происходит, и будет, наверное, происходить со мной и вокруг меня. Я увидел, как я сам, мертвый, лежу в каком-то закутке в Измайловской игле, а ребята Гейко гонят в эфир комбинации цифр, и вот одна из них совпадает с той, которая приводит в действие взрыватель, и вмонтированная в меня бомбочка сносит пол-Иглы — это было… и плыву на барже «муромцев» до конца, высаживаюсь на берег — и вот я уже в каком-то туннеле, опрокинутый пулеметной очередью, но гранатомет еще есть силы поднять, я поднимаю и бью под маску накатывающегося танка, белое пламя… и не лечу на прозрачном самолетике в Москву, а бреду куда-то в абвере гема, босиком, по теплой пыли — не в Тифлис ли?.. это все было в одно время и на одной земле, но как бы на разных улицах и так, что пересечься или встретиться с самим собой было невозможно, я это видел — что невозможно, а почему так, меня мало волновало. И так же было впереди, разно и по-своему одинаково, и можно было выбирать — при условии, что ничего не меняешь…
Я оттолкнулся от косяка двери, сделал несколько убывающих шагов и сел на газон.
Ракурс сместился, и картина исчезла.
Интересно, подумал я, неужели нам за все — и ничего не будет?.. Столько всего натворили, и — ничего?
Обидно…
Если Тарантул прав и если то, о чем он говорит, не очередной его трюк и не маразм, то… то — что? Принимать предложение? Клюнуть на фотографии, которые подделать — три часа работы? Ч-черт…
Вот выйдет сейчас обер-лейтенант…
Но обер-лейтенант не выходил. Вообще долго никто не выходил, а потом появился Тарантул. Он, как и я, постоял в дверях, жмурясь, и медленно направился ко мне.
Я сидел, не шевелясь, он опустился на корточки передо мной и спросил:
— Ну, что?
Морда у него была красная, потная. Дышал он часто и только что язык на плечо не вывешивал.
— Копейка найдется? — спросил я.
Не удивившись ничуть, он пошарил по карманам и вытащил гривенник. Я подбросил монетку, поймал, не разжимая руки, поднес к лицу.
— Орел — да, — сказал я.
— Понятно, — он усмехнулся. Я бы на его месте не стал усмехаться.
И вдруг что-то случилось. Я не смог открыть ладонь. Пальцы не разгибались. Ниже локтя рука была не моя. Я напрягся, и рука задрожала. Она дрожала все сильнее и сильнее, мерзко тряслась — это было унизительно и страшно. Наконец, сделав какое-то безумное усилие, я отшвырнул монету, не глядя. Дрожь унялась, и пальцы снова шевелились, как надо, и только студенистая, омерзительная слабость…
— Понятно, — повторил Тарантул. — Что же… считай себя в отпуске. Четыре месяца хватит? Я покачал головой.
— Отставки, — голос тоже был не мой: слабый и просящий. — Отставки…
— Отпуск кончится, и поговорим, — сказал Тарантул. — В Гвоздеве я тебе, естественно, не предлагаю…
Он смотрел на меня, а я сквозь него, потому что на краткий миг вернулась, всплыла и вновь погрузилась куда-то та картина, что появлялась недавно, — с видами непременного будущего. И я опять ничего не понял, но на этот раз успел сфотографировать ее взглядом и сейчас фиксировал в памяти, чтобы позже, наедине с ней, во всем разобраться. И что-то, наверное, Тарантул понял, потому что моргнул, и дьявольская уверенность в себе и в подчиненности ему прочего мира куда-то исчезла, оставив только след.
— В общем, думай до октября. Я молчал.
— Знаешь, сколько раз я уходил? Меня это не интересовало.
— Тебе станет очень скучно…
Скучно? Бог ты мой! Да я бы отдал свою бессмертную душу за то, чтобы мне стало скучно. Что может быть лучше скуки, осени, дождя за стеклом и полного одиночества?
Я знал, что ничего этого у меня не будет никогда.
— Думаешь, почему я набирал вас таких — дурачков, мечтателей, молчунов? Потому что знал — рано или доздно мы с ними схлестнемся, и шансы у нас будут только тогда, когда здесь, — он постучал по лбу, — не сплошная кость…
Все то же, то же, то же…
Я смотрел на него, как сквозь щель между створками почти закрывшихся ворот…
Год 2002. Михаил
29.04. 11 час
«Девятый полк»
По радио передали распоряжение начальника полиции: запрет на владение оружием отменен, в целях безопасности граждан разрешается и даже приветствуется открытое ношение оружия… приобрести в охотничьих магазинах по предъявлению удостоверения личности или получить во временное пользование в полицейских участках…
Зойка вдруг засмеялась, и я стал смотреть на нее. Хотя бы просто потому, что это было приятно. Под утро она замерзла и как-то вся съежилась; я нашел для нее утепленную куртку патрульного, и, завернувшись в нее, она поспала. А теперь, проснувшись, готова была вновь петь и летать, петь и летать…
— Мишка, — сказала она не в тон смеху, — знаешь, что мне сейчас приснилось? Что мы летим в каком-то большом самолете: ты, я, Петька, Тедди, этот твой ужасный отец… прости, что я так говорю, но…
— Я знаю. На него действительно жутко смотреть.
— Да. И вдруг оказывается, что кабина пилотов пуста. Там никого нет, понимаешь?
И вообще — самолет полупустой… огромный, как «Крым» или «Витоша» — ты же плавал на «Витоше», видел — какие-то салоны, каюты, трапы, переходы… и полупустой. И мы летим, а везде только небо. Я проснулась, и мне стало смешно.
— Ты умеешь видеть хорошие сны, — сказал я.
— Я проснулась оттуда сюда, и мне стало смешно, потому что — стало легко… я свинья, я знаю… Тедди… только, Мишка, — я и по тебе столько же горевала бы…
— Доживем — увидим, — сказал я.
— Я вот все думаю: а вдруг мы не настоящие? Как Петька говорил… что нас сочинили и бросили…