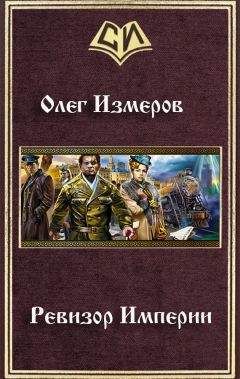— Экскузе муа, месье, же не парле по франсе, — попытался ответить Виктор. — Ай кен спик инглиш. Унд их шпрехе дойч шлехт.
Незнакомец перешел на английский, сообщил, что его зовут Филипп Готьер, он франко — подданный и фабрикант детских игрушек, и хотел бы немедленно приобрести права на "Монополию".
— Месье, я в путешествии и при мне нет необходимых бумаг, — попытался возразить Виктор, но Готьер был неумолим.
— Вы подпишете расписку, что уступаете права на данную игру. Остальное сделают мои юристы. Я немедленно плачу три тысячи франков наличными.
— Разве это деньги для людей в воздушном путешествии?
— Хорошо, назовите вашу цену.
— Сегодня прекрасный день, поэтому цена действительно символическая — семь тысяч.
Месье Готьер покачал головой.
— Это невозможно.
— Что означает "возможно"?
— Три тысячи сто франков. Вы не сможете продать эту игру дороже в России, покупатель должен уметь читать и считать.
— Но я лечу в Швейцарию. Ради того, что наличными, могу сделать скидку. Шесть тысяч пятьсот.
— Три тысячи сто пятьдесят. Это все, что я могу.
— Рубль растет. Удачные инвестиции требуют рисковать деньгами. Посмотрите, как они азартно играют.
— Три тысячи двести…
В конце концов сошлись на четырех тысячах двухстах тридцати, и Готьер принялся тут же сочинять договор.
"Сейчас накатает чего‑нибудь, и залетишь на миллион"
— Я приглашу супругу прочесть, — сказал Виктор. — Эмма всегда читает мои бумаги. Семейная традиция.
Коридор за распашными дверьми с толстыми, армированными проволочной сеткой стеклами и круглыми молочными плафонами под потолком встретил Виктора полумраком и легким ветром с запахом озона из вентиляционных отдушин. Дверь каюты не подалась нажиму на ручку, и Виктор спокойно вставил ключ в скважину.
В свете незашторенного иллюминатора посреди узкого пенала каюты стояла полуодетая Эмма; она вскрикнула, и Виктор тут же ретировался, прикрыв за собой дверь.
Было о чем задуматься. Но не о прелестях спутницы.
На обнаженных загорелых плечах Эммы он заметил неровные, cпускающиеся вниз к лопаткам, тонкие светлые полоски. Шрамы.
Он не успел осмыслить своего нового открытия, как дверь приоткрылась и в ней спокойно показалась Эмма.
— Заходите же, — сказала она равнодушно и без привычной надменности. Случившееся, похоже взволновало ее: платье на груди вздымалась от глубокого дыхания и чуть раздувались ноздри. — Я переодевалась для полуденного сна.
— Да я, собственно, вот с чем. Тут иностранец предлагает четыре тыщи за игру. Франками.
— Вот как? А я и не знала, что вы шулер.
— За авторские права на игру. "Монополия", помните, за столом.
— Ах, да… — медленно протянула она. — Чувствуете подвох?
— Мы живем в неидеальном мире, мадам. Вы могли бы посмотреть документ, который он предлагает подписать? А то вляпаемся. Или, может, просто отказаться?
— От четырех тысяч франков? Неразумно. Подождите, я переоденусь и выйду.
…Сделку отметили в буфете кают — компании. Но даже и после рюмок мартеля, которые Виктор, к удивлению месье Готьера, тянул медленно, чтобы не притупить бдительность, его не оставляло чувство тревоги. Что‑то было не так, слишком легко дались эти деньги, а расписка в том, что он, Виктор Еремин, переуступает права на придуманную им игру, казалась филькиной грамотой. На всякий случай он пощелкал пальцами по бумаге записки, чтобы проверить, не написана ли она стряхивающимися чернилами и погладил поверхность листа, пытаясь выявить подклейку. Все чисто. Похоже, если Готьер затеял аферу, ему была нужна не подпись.
— Эмма, — сказал Виктор, когда они вернулись в тесный пенал каюты, — какая ваша доля? Я ваш должник, без вас я бы не получил этот маленький выигрыш.
— Оставьте эти деньги при себе, они пригодятся. Мне ничего не нужно.
— У — у, когда женщина говорит, что ей ничего не нужно, она хочет все… Хорошо, в Швейцарии будет свободная минута, зайдем к ювелиру. "Лучшие друзья девушек — это бриллианты".
— Я не девушка, но, полагаю, в вас говорит справедливость, а не желание купить расположение. Только после того, как закончим дела.
— Естессно… Эмма, а вы были в контрразведке противника?
— Что? — произнесла она тоном равнодушного удивления.
— Шрамы.
— Нет. Это муж.
— Тогда понятно. Извините…
— Вам ничего не понятно, — сказала Эмма после некоторой паузы. — Он не был садист. Он просто смотрел на женщин, как на диких животных, которых надо укрощать, подчинять своей воле, иначе они его разорвут. Похоже, его глодал маниакальный страх быть подкаблучником, детские воспоминания или что‑то в этом роде. Может быть, он имел перед глазами примеры, когда мужчины попадали в крепостное состояние. Может, он сам был из тех людей, которые подспудно склонны верить, что женщина, которой они добились, принесла им неслыханную жертву, что на их шею теперь накинута петля и они навеки проданы в рабство предмету своей страсти. Может, он просто внушил себе, что женщина, оказавшись с ним на одной ступени, быстро найдет слабину в его душе и начнет вить веревки. Никто не бывает так жесток, как человек с душой раба… Тонкий хлыст в руке возвращал его душе покой, крики боли и искаженное лицо жертвы приносили успокоение. Физические страдания не были для него ни источником наслаждений, ни средством начать вожделеть женское тело; он рассчитывал ими подавить волю, превратить человека в послушное существо. Это была операция, которой он постоянно подвергал меня, чтобы исцелить себя. Будто объезжал строптивую лошадь на конюшне, мое сопротивление лишь усиливало его упорство. Однажды я поняла, что он скорее убьет меня, чем поймет, что я никогда не покорюсь его воле…
— И третье отделение спасло вас от каторги, предложив вербовку?
— Полиция ничего не смогла доказать. Именно это и привлекло чиновников гостапо. Мне предложили бороться с человеческой мерзостью. С ордой насильников, которая собирается идти нас укрощать.
— Вы боялись, что если между нами завяжутся романтические отношения, я увижу вашу спину, и буду смотреть на нее, как Д'Артаньян на лилию?