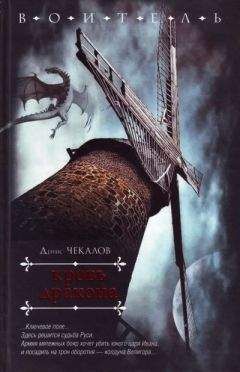Группа бояр с холопями, разогнавшись с пригорка, мчалась по улице, безмолвно, в странном единстве между собой и лошадьми, представляя как бы нечеловечески организованное одно существо, источающее зло, пониманию которого нет места на земле.
Алеша стоял на другой от Петра стороне дороги, вдали, раскрыв рот, как бы оцепенев и не пытаясь перебежать к отцу. Мчавшийся впереди боярин, в богатом кафтане, с собольей опушкой, парчовой шапке, белизну лица которого подчеркивали рыжая борода и черные глаза, столь лишенные жизни, что казались мертвыми омутами, чуть тронул коня вправо и носком сапога задел мальчика, не удержавшегося на льду и молча, без крика, упавшего под копыта лошади предводителя, отбросившей его дальше, к следующему всаднику.
На мгновение мальчик скрылся в карусели лошадиных ног, и вот уже отряд промчался мимо. Со страшным криком Петр пытался броситься в гущу лошадей, но не успел. Лишь на долю секунды встретились черные живые глаза Петра и мертвые боярина. Дорога опустела, никто не вышел из домов, лишь к щели в заборе приник протрезвевший Потап.
Белый снег, подмерзший к вечеру, был испятнан кровью. Посреди дороги лежала жалкая тряпичная кучка, которая не могла быть его сыном, и возле которой на коленях уже стояла стонущая Аграфена, пытаясь нежными материнскими руками превратить то, что лежало перед ней, в ее мальчика, передать ему искру жизни, как было при рождении.
Петр молча опустился рядом с ней, не приемля свершившегося, осознавая его вне связи с собой и с сыном. Изломанные ручки сжимали рукавички, которыми он хвастался перед дружком и не выпустил в свой смертный час. Возможно, соединял их в мыслях с отцом, который должен прийти на помощь.
Так представлялось Петру, хотя убийство было так скоро, что ребенок вряд ли мог подумать о чем-то, конвульсивно сжимая ладошки. Правая сторона головы была раздавлена, а левая странно уцелела. Кусочек неокровавленного лба был прикрыт темным завитком, и в небо и в душу родителей смотрел прозрачный, как вода, зеленый материнский глаз, опушенный нежными ресницами.
Из уголка рта, который так смешно коверкал слова, пел песни с отцом, задавал такие серьезные вопросы и теперь замолчал навеки, струилась кровь, впитываясь в снег. Одна нога мальчика, с которой упал сапожок, расплющенная, лежала голой ступней в снегу, и Аграфена все пыталась прикрыть ее, спасая от холода.
Одежка сына была мокрой, меховая опушка слиплась, и неуместно, даже ему показалось кощунственно, мелькнуло мгновенное воспоминание о том, как они вместе с сыном хоронили под кустом боярышника любимого котенка Алеши, утонувшего в реке, такого крошечного, с такой же слипшейся шерсткой.
«Господи, не дай, чтобы это было правдой, пусть уйдет наваждение, это не должно, не может быть правдой», — проносилось в мыслях Петра. — «Это не твоя воля, это враг людей наслал своих подручных загубить невинное дитя и нашу жизнь».
Постепенно выползали соседи, убедившись, что бояре не вернутся. Вышел Потап с простыней, на которую положили тело. Подняли обезумевшую Аграфену, и скорбная толпа вошла в дом. Петр остался на дороге, возле сапожка сына, с диким вниманием вглядываясь в него, замечая, что он стал уже маловат, и большой пальчик ноги выдавил тонкую, тщательно выделанную отцом кожу.
И вдруг сапожок ребенка в мыслях заслонил сафьяновый сапог, носком которого князь Воротынский, скакавший впереди, толкнул мальчика. Как будто взорвался твердый кокон безмолвия, опутавший кожевенника. Он услышал крики жены и причитания соседей, увидел возле себя Спиридонку и Потапа, что-то говоривших ему, и пронзительно осознал мысль, все время бившуюся где-то в сознании: убить! Уничтожить врага, неожиданно возникшего, беспричинно разбившего жизнь его семьи, отнявшего невосполнимое.
Молча, сопровождаемый соседом и учеником, он входит в дом. Из комнаты слышится крик жены:
— Он, он, это был тот, которого я видела у реки, кто ехал к мельнице за дьявольскими, кто смотрел на меня с такой ненавистью, он нарочно убил сына!
Потап, мужик громадный, силы невиданной, с простодушным лицом, уже сизовеющим от пьянства, но все еще сохраняющим черты открытости, доброты, но и слабости тоже, услышав крики, замахал руками:
— Нельзя клеветать на достойного боярина. Никто его не видел среди убийц. Тише, неровен час, услышат, горя не оберешься!
От речей Потапа Петр содрогнулся:
— Ты, при моем мертвом сыне, перед лицом бога лжешь и кары не боишься! Разве мало помогал я тебе, а теперь ты, как холоп смердящий, покрываешь убийцу, жаловаться на которого я хотел самому царю!
Лицо Потапа от прихлынувшей крови почернело, но в его выражении, глазах проглянула непривычная, даже невозможная для его обычного вида неопределенности, услужливого добродушия, твердость.
— Помогал ты мне много, Петр, за это вечно тебе благодарен и отслужу, как скажешь, в любом деле. Но в этом пойти с тобой не могу. Знаю, знаю, как ножом ударю, но ты своего сына потерял и уже никогда не вернешь, увидишь только в Божьем царстве. А у меня уже нет жены, умерла моя красавица, моя певунья, да сын остался. Пусть я и плохой отец, жена была светом моей жизни, но сын — единственное, что у меня есть, общая наша кровинушка. Из его глаз смотрит на меня моя Полюшка, и убить его своими руками не могу. А ты думаешь, долго он проживет, да и мы с тобой, если пойдем против Воротынского? Не все ты знаешь, да и не нужно тебе, но имеет боярин силу непобедимую, и дана она ему не Божьим усмотрением.
— Опомнись, дядька Петр, слышь, и Потап говорит о бесовской силе боярина. И я тебе сказал, что добрые люди бают. Смирись, погибнешь и жене погибель принесешь. Да и кто ты, чтобы допустили тебя к царю с жалобой. Хоть, говорят, царь против бояр, но он врагов выбирает, глядя с трона царского, а не по каждой челобитной простого обиженного.
Молча слушал их Петр, сердце сжималось от розни между словами их правильными и глубиной неизмеримой того горя, о котором говорилось и которое требовалось принять со смирением, в ожидании встречи у престола Господня.
Вдруг Петр снова как опомнился: что я стою здесь, когда мой мальчик и моя жена одни? Уж не боюсь ли я увидеть его, а сына не разглядеть затем, во что он превратился и искать его потом среди живых всю жизнь?
Отбросив мысли страшные и греховные, Петр вошел в комнату, где мальчик уже лежал под белым, отмытый от крови, прикрытый так, чтобы видна была только неизуродованная половина лица, с закрытым уже глазом и длинными ресницами, лежащими на нежной, уже побелевшей щеке. Аграфена стояла рядом на коленях, чуть прикасаясь к сложенным, чудом уцелевшим ладошкам, не нажимая на них, чтобы не причинить боль изломанному тельцу сына, представляющему одну рану.