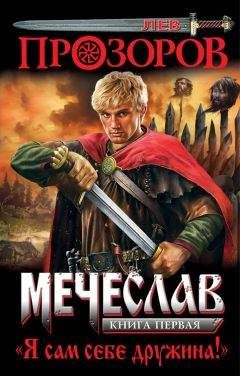Доуло, смеясь и качая стриженой головою – или кивая на свой странный лад? – оглядел притихших, напружинившихся, словно в засаде в ожидании знака к нападению, отроков и молодых воинов Хотегоща. Потом указал рукою с ковшом на Истому.
– Что ты хотел узнать у меня, юнак?
Истома откашлялся в кулак и проговорил:
– Вот тот… хазарин… он всё говорил – «боги князя», «ваши боги». Почему он не говорил о своём боге? Разве хазары так уж чтят наших Богов?
– Нууу… – протянул Барма под разочарованное ворчание многих воинов постарше. – Мог бы и у нас спросить…
– И впрямь вопрос не из сложных. – Доуло огладил ладонью бороду. – Хазарская вера запрещает желать добра чужакам. Что бы ни пожелал, что бы ни сделал для хазарина иноплеменник, чужеродец – из моего племени, из вашего, из любого иного, – желать добра ему нельзя. Это считается у них оскорблением веры, чуть не предательством. Однако слишком явно показывать это они тоже не любят. А Богов… Богов наших они, да простят меня Бессмертные, считают за пустое место, за безжизненные деревяшки, бессильные помочь кому бы то ни было. – Доуло смолк, пережидая гневный ропот слушателей.
– Так не только с нами – то же они скажут русину или печенегу, греку или болгарину. Хазары ведь верят, что есть только один бог – бог их племени. Значит, пожелав чужаку подмоги его богов, хазарин вроде как показывает себя его другом, но и запрет своей веры не преступает – он же верит, что пожелал чужаку помощи от куска дерева или камня.
А мы их всё же побили, подумал Мечеслав и усмехнулся своим мыслям. Боги-то есть, чтоб там себе коганые ни думали. Себе на голову пожелал нам тот хазарин помощи от Них.
– Теперь отвечу… тебе. – Доуло вновь устремил руку с ковшом в сгрудившихся за столом напротив молодых воинов. Вперёд подались сразу несколько, волхву пришлось ещё и глазами указать на избранника. Тот, запунцовев ясной девицей, даже поднялся со скамьи и, сглотнув, выговорил:
– Мудрый… ты… про этих пел… гречинов… а кто злее, который враг – гречины или хазары?
– Ты, Образец, и спросил, – с ленцой подал голос его ровесник Слых, рыжий веснушчатый парень с неприятной улыбкой. – Прям как селянин – они ж бедами меряться любят – ох, сосед, у меня чирей на носу вылез, эх, а у меня коза охромела…
Несколько парней и даже не прошедших посвящение отроков засмеялись, Образец, мигом позабыв и волхва, и свой вопрос, стал разворачиваться к Слыху, потянув из ножен нож:
– Ты кого с селянином срав…
– Тихо! – окрик старшего, Нагибы, словно дождь летнюю пыль на дороге, прибил к земле затеявшуюся было свару. – Коль спросить ладно не сумели, хоть ответ выслушайте, не срамите вконец сородичей перед волхвом!
Образец и подавшийся было ему навстречу Слых опустились на места, напоследок прожигая друг дружку яростными взглядами.
– А вопрос не дурён. – Доуло на сей раз согнутым пальцем провёл по усам. – Непростой вопрос. Что помогает вам устоять против хазарской порчи? Почему не покоряетесь, как многие покорились? Не гневайтесь на меня. Просто скажите, скажите сами – почему?
Снова воцарилось молчание. Дед, усмехаясь, оглядывал сородичей, чьи лица стали сейчас ещё больше похожи, чем обычно. Спроси у птицы, почему она не ползает по земле. Спроси у огня, почему он жжёт, а не морозит. Спроси у человека, почему он ходит на ногах, а не на руках.
– Честь наша… – послышалось с разных сторон. – Слава… Воля… От пращуров завещана…
– Кто даровал честь? – настойчиво спросил, наклоняясь вперёд и выставив бороду, старый Доуло. Глаза его блестели. – Перед кем бережёте вы славу? Кто дал волю вашим родам, а пращурам вашим заповедал обычаи? У руси есть песня про воина, что увидел камень с пророчеством. Там были такие знаки – на левой дороге женишься, вправо свернешь – добудешь богатство, поедешь прямо – погибнешь. Куда поехал русин?
– Прямо! – выдохнули воины.
– Верно! А почему? Кто его видел? Кого ему было стыдиться? Коня?
Молодые воины засмеялись.
– Богов! – вдруг выкрикнул Мечеслав и осёкся под суровым взглядом вождя. Но волхв словно не заметил, что ответивший ему был отроком.
– Верно! Так верно ли будет, если я скажу, что всё, что держит вас против хазар, как реки из истока, как дерево от корня, идёт от Богов? Верно ль скажу я, что там, где не досягает ваш меч, селянину, сгибающемуся под насилием хазарским, не даёт стать скотиною, рабом – память о Богах?
– Верно! – зашумели люди Хотегоща. – Правильно говоришь, мудрый! Так и есть!
– Так вот, – продолжил Доуло, вновь поднятой ладонью призывая слушателей к молчанию. – Хазары как ни давят, как ни гнут, как ни портят – бьют снаружи. Греки могут быть и не таковы, как хазары. Я знал иных из них – для них честь не была пустым звуком, и они не все горазды только прятаться в бою за спины наёмников. Но они отказываются сами и требуют отказаться других от источника чести. От Богов. Моему… – волхв осёкся, шевельнул усами, – правителю земли, в которой я жил, греки, взяв его в плен, оставили престол. Но потребовали отвергнуть Богов, которых чтили его люди, и принять, за себя и за них, Мертвеца, которому поклоняются они сами. И дело тут даже не в том, что они считают Мертвеца сыном того бога, которому поклоняются хазары. Дело в том, когда народ отказывается от своих Богов – рано или поздно к нему придут хазары или такие, как они. И не на что станет опереться. Потому что опора опор – отвергнута.
На сей раз молчание было каким-то зловещим. Молодые воины и отроки сидели насупясь или растерянно переглядывались.
– Так значит, греки злее… – полувопросительно произнёс сидевший рядом с Образцом Радим, глядя перед собою.
– Но придут-то потом всё едино хазары, – угрюмо отозвался Барма.
Доуло покрутил стриженой головою.
– Боюсь, запутал я вас, воины Хотегоща. Скажу так, как сказал бы мой отец или кто из его друзей, – злее тот враг, который стоит сейчас перед тобою.
– Вот это хорошо сказано, – не без облегчения в голосе произнёс Збой. С таким же облегчением зашумели остальные вятичи, возвращаясь к лежащим на столе кушаньям – такое надо было заесть и запить.
Только Мечеслав не повернулся к столу, продолжая сидеть лицом к волхву и сверлить его взглядом. Доуло повернулся к нему, улыбнулся:
– Ну, отрок, ты хорошо мне отвечал, теперь и я тебе отвечу. Спрашивай.
Мечша радостно выдохнул – очень уж опасался сын вождя Ижеслава, что волхв не заметит его или не захочет замечать. Обратить на себя внимание старшего воина, не прогневав его, и то было делом непростым, а тут – волхв, человек, как вчера Мечша сам убедился, стоявший у порога небес.
– Мудрый, – вспомнил он обращение к волхву. – А в чём она, порча хазарская? Как происходит? Как они сами… такими вот… сделались? И как других портят? – торопливо добавил Мечеслав, вспомнив залитое слезами лицо Незды.
Внезапно во дворе Хотегоща стало тихо-тихо.
Старый волхв опустил голову.
– В древние времена, – тихо сказал он, – когда мир ещё не успел забыть, что он – плоть Родова, когда каждая былинка, каждая капля дождя, не говоря уж про птиц да зверей, Его жизнью дышали полною мерой. Тогда не было ничего, про что бы человек сказал «это». Всё было «ты». А изначально – и «Ты», ибо во всём зрелся людям Его лик. Мы, когда вершим обряд, в каждую вещь, в чару, в мёд, в нож – во всё призываем Его. Теперь – призываем. Когда-то Он был там всегда, и не надо было призывов, чтобы увидеть это. Вспомните сказки, что рассказывали вам матери, – не краснейте, я знаю, что вы их помните. Это не ущербность посвящения, как полагают иные неразумные, что оно не убивает той памяти. Ибо не должно оно убивать истину – а в сказках, где дерево, зверь и птица, и каждая былинка голос и разум имеют – память о древней правде. Всё – «ты», и всё – «Ты», хоть и тяжко нам, нынешним, вмещать память о том, но поскольку хоть на словах помним – благо нам. Пока воин относится к мечу, как к другу, а не как к куску железа, к коню, как к брату, а не как к двум парам лишних ног, пока пахарь просит прощения у пашни перед тем, как вонзить в неё лемех, и оставляет последний сноп нетронутым, чтоб духа ржи не оставлять без убежища на зиму. Чем больше для нас «ты», чем меньше «это» – тем больше в нас от Всеотца, от Того, Который Есть Всё – И Больше.
Хазары по-иному живут. Для них всё, что не есть они, всё, что не их племени – то, что для иных мёртвая вещь. Не «ты», «это». Чужой народ, чужая земля, чужие боги, чужая любовь, чужая ненависть – всё «это». Без души, без воли, без обычаев и желаний, без чести и бесчестия, что нельзя любить, нельзя уважать, нельзя договариваться – только использовать. В мёртвом мире живут они. И мертвечина их на том не останавливается, уже и на соплеменников начинают смотреть те, кого мнят хазары мудрецами, как на «это» – на «народ земли», «ам-хаарец», «чёрных хазар».
Беда же в том, что заразна эта порча. Помалу она проникает в души – особенно там, где мечом наёмным подчиняют себе хазары иные племена. Гибнут волхвы, гибнут воины, а селян и холопов становится некому научить, что не всякая Сила – Правда. И обманываются люди, перенимая хазарскую кривду. Ничто становятся для них сперва честь и обычаи, предки, родная земля. Только для себя, для семьи своей жить начинают. А потом – только для себя. И всё остальное для них «это» становится. Нет для них тогда беды – для спасения своей сестры на других беду навести. Ведь только сестра «она», а остальные – пусть вятичи, но всё-таки «это».