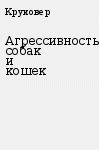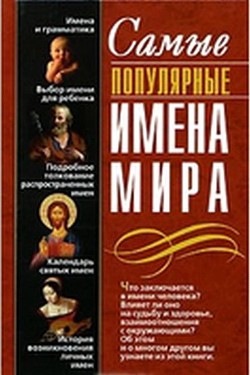Но бабу все равно хочется, надо как то в туалет просквозить, чтоб мама не заметила этого желания!
Просквозил, пунцовея от сдержанного хохота — восьмидесятилетний отрок с подростковой эрекцией.
Не знаю уж по какой причине, но наслоилось ужасное воспоминание из геологических похождений о том, как забрел в маленький поселок между двух холмов в Саянах, в котором небольшое население было полностью вырезано группой беглых зэков. Дети, старики, женщины… Вызвал по рации милицейский вертолет и до вечера ждал его на отшибе у ручейка. С тех пор ненавижу уголовников.
Наверное в жизни это типично: смерть и секс — соседи в клетках памяти. Наиболее острые эмоции способствуют их запоминанию, переводу из оперативной в долгосрочную память и без архивирования.
И от всей души завидую добрым и светлым людям, в чьих воспоминаниях лишь доброе и светлое. Особенно из детства. О себе же, увы, могу сконцентрировано сказать отрывком из незаслуженно забытого писателя Александра Ивановича Левитова, что жил и творил в 1835–1877 годах. Его проза полна левитановской широты и поэзии, его жизнь проложена Сатаной, его смерть — вершина собственного самоуничтожения. Мало кто из нынешних «букеровских» и «антибукеровских» премий достигает такого литературного мастерства, как умел Левитов в своих стихийных рассказах без сюжета и без особых идей.
(Если кто-то заинтересуется судьбой его, искалеченной церковью и алкоголем, то очень и очень советую…)
«Как глубоко я завидую людям, которые имеют право, с светлою радостью на измятых жизнью лицах, говорить про свое детство как про время золотое, незабвенное. Сурово понуривши буйную голову, я исподлобья смотрю на этих людей и с злостью, рвущей сердце мое, слушаю тот добрый и веселый смех, с которым обыкновенно они припоминают и рассказывают про свои нетвердые, детские шаги, про помощь, с которою наперерыв спешили к ним окружавшие их родственные, беспредельно и бескорыстно любившие лица. Слушаю и смотрю, как при воспоминании об этих родственных образах добрая радость рассказчиков сменяется какою-то тихой, исполненной невыразимой любви печалью и как они, наконец, забывши в эти моменты свой солидный возраст, с совершенно детской наивностью начинают страстно желать возврата и своего детства, и тех дорогих людей, которые некогда лелеяли их, но которые тем не менее в данную минуту бесповоротно жительствуют в тайном и никогда не выдающем своих обитателей царстве смерти».
Я так полюбил этого автора, что и сквозь преображения времени и образа, они горят в памяти. Точно так же могу цитировать многие великие и не очень стихи, могу цитировать Харпер Ли из её «Пересмешника…», которого еще не перевели на русский и об успехе которого сама она писала:
«Никогда не ожидала какого-нибудь успеха Пересмешника. Я надеялась на быструю и милосердную смерть в руках критиков, но в то же время я думала, может, кому-нибудь она понравится в достаточной мере, чтоб придать мне смелости продолжать писать. Я надеялась на малое, но получила все, и это, в некоторой степени, было так же пугающе, как и быстрая милосердная смерть».
И размышления великого Януша Корчака тоже во мне, нетленно!
Не возвращайтесь в Варшаву,
Я очень прошу Вас, пан Корчак,
Не возвращайтесь,
Вам нечего делать в этой Варшаве! [31]
Нынче мы все между щемящим прошлым и оскорбительным настоящем. И совершенно нельзя было бы Янушу Корчаку возвращаться в нынешнюю Польшу, которую вновь оккупировали фашисты с американскими логотипами и педерасты всех мастей.
Но не буду злоупотреблять, а то не сколько-то там воспоминаний получается, а «Сколько-то там оттенков серого». Кстати, эти «оттенки» свидетельствуют об упрощении до скотского читательских вкусов и о всеобщей деградации литературы.
Как и музыки… да и в целом — массового искусства, подмененного плебейским и коррумпированным телевидением.
Блок писал: «На бездонных глубинах духа, где человек перестаёт быть человеком, на глубинах, недоступных для государства и общества, созданных цивилизацией, — катятся звуковые волны, подобные волнам эфира, объемлющим вселенную; там идут ритмические колебания, подобные, процессам, образующим горы, ветры, морские течения, растительный и животный мир».
Воспоминания — всегда ерш. Из смешного и серьезного, из грустного и светлого, из «да» и «нет», из «ага» и «ого!» Этот ерш, порой, пьянит не хуже вина.
Взросление мое было немного противным, так как я не получил детского опыта общения с людьми. В результате вел себя в обществе, как дома — или с бездумной искренностью, или в угрюмой отстраненности. А проявления юношеской сексуальности вообще выглядели по-дурацки. Как понимаю сейчас, анализируя эти полудетские архивы памяти.
Я как бы пытался играть с людьми в «бери и помни», но им чужды были мои ассоциации с куриной ключицей, ломая которую средний брат и мама проигрывали, а старший брат всегда выигрывал. А папы уже скоро не было, мама получала за потерю кормильца 69 руб, а я до совершеннолетия — 30. братья были неинтересны, да и не очень-то их интересовал младший брат.
Зато юношеских прыщей у меня никогда не было, да здравствуют солнце, воздух и все остальное, что укрепляет организм.
Я наскоро умыдся и засел за пишущую машинку Рейнметалл (Rheinmetall), купленну папой два года назад и по всем правилам зарегистрированную в КГБ. На ней все пытались печатать, но бытро научился только я и со временем полностью её окупировал. Сейчас я хотел напечатать аллегорический рассказ с условным названием: «Волк», который на самом деле в первой жизни написал в 21 год и который принес мне успех.
Сюжет прост. На Земле остался последний волк, и он знает, что последний. Он охотится близ деревень и спокойно ищет смерть.
«…Его иногда видели у деревень. Он выходил с видом смертника и нехотя, как по обязанности, добывал пищу. Он брал свои трофеи на самом краю поселков. Брал то овцу, то птицу, но не брезговал и молодой дворнягой, если она была одна. Он был крупный, крупней раза в два самого рослого пса. Даже милицейская овчарка едва доставала ему до плеча. Но они не видели друг друга.
Он никогда не вступал в драку с собачьей сворой. Он просто брал отбившуюся дворнягу, закидывал за плечо, наскоро порвав ей глотку, и неторопливо уходил в лес, не обращая внимания на отчаянные крики немногих свидетелей. Он был осторожен, но осторожность получалась небрежной. Устало небрежной».
Ну надо же, какая память стала хорошая. Разогнал я её за восемьдесят лет плюс еще семнадцать в новом существовании. И никакого божественного мобильника не надо, да и не собираюсь я использовать — воровать еще не написанные песни и романы для обеспечения собственного подленького и мелочное существования. Да и СССР я не смогу спасти. А мог бы — не стал. Не хочу вместо нынешней России получить второй рабовладельческий партийный Китай вместо СССР. Пока никто не придумал экономику, превосходящую капиталистическую свободную торговлю. Так что СССР просто невозможно сохранить, а меняя и латая мы все равно получим или Северную Корею или второй Китай!
Мой волк в рассказе — это та самая свобода, которую неизбежно убьет смерд в милицейских погонах. Как там у меня было?
…Одна пуля тупо ушла в землю, другая. Руки милиционера тряслись, но он был мужественным человеком, стрелял еще и еще. Пуля обожгла шерсть у плеча, но волк не прибавил шагу. Он шел, играя мышцами, а глаза горели ненавистью совсем по-человечьи.
Мужественный человек заверещал по-заячьи и, как его пес, упал в снег. Тогда волк остановился. Остановился, посмотрел на человека, закрывшего голову руками, на пса поодаль, сделал движение к черной железине пистолета — понюхать, но передумал. Повернулся и пошел в лес, устало, тяжело. Он снова был худым, и снова гремел его скелет под пепельной шкурой.