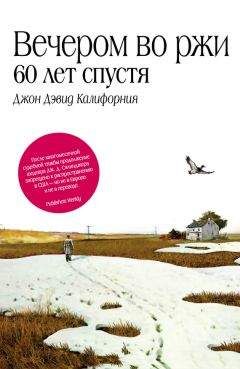Беру себе номер на семнадцатом этаже и очень скоро уже выхожу из душа, ложусь в постель и в считаные секунды засыпаю.
Не иначе как возникли некоторые сложности. Куда ж без них. По-моему, я уже не имею над ним прежней власти. Жму на нужные кнопки, картридж не иссякает, бумага подается бесперебойно. Стопка листов у моего локтя растет, но слова уже не служат мне верой и правдой. Они меняются по своему хотенью, и вначале кажется, что в угоду мне. Я им приказываю танцевать – они танцуют, приказываю кружиться, прыгать и приседать, все как прежде, но стоит мне отложить страницу и отвести взгляд, как они растворяются, чтобы тут же сложиться в другие созвездия, наполненные другим смыслом. Уж я и тяну их, и дергаю, все средства перепробовал, но это все равно что шнуровать ботинки, не снимая боксерских перчаток.
Они переметнулись на другую сторону и теперь горой стоят за него, а не за меня. Как видно, беженцы-земляки всегда держатся вместе. Я сам виноват: слишком долго позволял им гулять на свободе. Он без моего ведома скитается по дорогам, по лабиринтам шоссейных развязок, а потому становится неуправляемым. Чтобы его вернуть, у меня остался только куцый обрывок веревки. Наверное, я закоснел, потому как давно не практиковался. Хотелось бы поскорее войти в колею.
Сейчас опробую кое-что новое. Плоды будут видны не сразу. Я посадил семечко, особенное, раннее. Во время нашей с вами беседы оно уже проклюнулось, пустило тонкие корешки в прелую землю, потянулось колючими веточками к небу. Семечко это горькое, летучее – семя смерти. Теперь остается сидеть и ждать, пока природа не довершит остальное.
Всю ночь у меня жутко стучало в висках. Спал я крепко, без просыпу, но от этого стука просто извелся. Теперь вот просыпаюсь с легкой головной болью.
Как я уже говорил, в половине случаев я сам не знаю, почему поступаю так, а не иначе. Например, сажусь в постели и силой воли начинаю изгонять головную боль. Для этого я представляю себе боль яркой краской, обычно желтой или синей, склоняю голову набок и воображаю, как головная боль вытекает из меня наружу. Короче, по ходу дела у меня появляется непреодолимая потребность продолжить путь. Понятия не имею, куда меня влечет, просто внутри, где не почесать, зуд какой-то – и сразу после завтрака я покидаю этот отель. Ухожу совсем недалеко – и меня осеняет, что делать дальше. Сесть на автобус, вот что: это ведь самое естественное решение.
В автобусе непривычно свободно, с самой первой остановки. Пассажиров раз-два и обчелся, да и те один за другим выходят, и в конце концов остаемся только мы с шофером. Дорога чернеет пятнами мазута, а может, тоски. Провожаю глазами автобус, и почему-то мне кажется, что это сцена из фильма.
Больше там реально ни черта нет. Дорога, по которой мы приехали, замыкается сама в себе, как змея, пожирающая собственный хвост, а потом уползает назад, откуда пришла. Единственный проход – через маленькую калитку в обветшалом, покосившемся заборе. Это конец пути, в полном смысле слова конец пути для множества людей. Немало овдовевших женщин и осиротевших детей стояло там, где сейчас стою я, у подножия холма с каменными плитами. Отсюда, снизу, они кажутся совсем маленькими.
Что в этой жизни есть бесспорного? Могу дать только один ответ. Люди умирают – вот что. Реально. Никого не минует чаша сия – это лишь вопрос времени. Я разворачиваюсь, захожу в калитку и начинаю подъем по крутой дорожке.
Ну и денек я выбрал для посещения кладбища. Серый, как заброшенная хижина. Зачем только Бог создал серый цвет? В смысле, кому он нужен? Мои родители покоятся на противоположном склоне. В полукружье надгробий крайнее – их. На полпути вынужден остановиться, чтобы перевести дух. Оборачиваюсь и смотрю вниз на городскую панораму, на то самое место, где она раздвигает ноги. Что-то в ней изменилось, только не могу определить, что именно. Тоска какая-то сквозит, что ли, рябит сотнями оттенков грязных кирпичей и таких же облаков; меня и самого от этого тоска берет. Под ложечкой сосет, как с голодухи. Изжога такая, как будто желудок сам себя поедает. Но голода я не чувствую. Иду дальше и вскоре добираюсь до вершины.
Там и мое имя высечено, а рядом оставлено пустое место – на будущее. Сворачиваю в проход меж двух рядов зеленых зарослей и дохожу до самого конца. Долго же она меня ждала. Позор мне. Наклоняюсь, дотрагиваюсь ладонью. Немало времени минуло, говорю, но так уж вышло. Ветер шелестит последними листьями, а у меня за спиной на дереве скребется бельчонок. Чувствую, смотрит на меня. Обжигает мне шею горячими бусинками.
Стоя рядом с ней, я никогда не придумываю никаких особенных слов, они приходят сами собой.
У меня была прорва дел, говорю я ей, а сам знаю, что она покатывается со смеху. Наклоняюсь поближе к надгробью, поближе к ней, ложусь со своего краю на траву и читаю сам себя. Прощальное послание жизни, высеченное в камне на веки вечные. Меня не печалит, что когда-нибудь придет время возвращаться домой. Наоборот. Я носил свое имя много лет; теперь мое имя унесет меня в последний путь.
И тут появляется этот француз – поднимается на самую верхотуру по ступенькам, коих многие сотни, если не тысячи. Кладет ладонь на дверную ручку, распахивает дверь – это его дружок организовал – и выходит на свет. На плече у него моток проволоки; останавливается у карниза и бросает один конец своему дружку, который поджидает на другой стороне. Тот лишь с третьей попытки ловит. Погода – не подарок: прямо у них над головами тучи висят, притихшие, неподвижные, но это ерунда. Ветра нет – вот что важно.
Шест приготовлен уже давно, а может, кто-то его только что притащил – сейчас не помню. Берет он этот шест и становится ну вообще уже на самый край, еще чуть-чуть – и рухнет вниз. Постукивает носком по проволоке, трогает ногой снизу, сверху – проверяет, типа. Натянута отлично. Не шелохнется. Делает глубокий вдох и упирается взглядом в квадратную стальную дверцу на другой стороне. До нее, в принципе, совсем недалеко, но сейчас кажется – тыща миль; делает шаг. Земной шар дрожит и крутится, но проволока привязана мертво, а взгляд прикован к стальной дверце. Секунды тикают, но этого не замечаешь, потому что время застыло. В то самое мгновение, когда его ноги касаются противоположного карниза, наш сын издает свой первый крик. Эта новость облетает весь свет. На дворе год тысяча девятьсот семьдесят второй, и мир уже никогда не будет прежним.
На кладбище времена года не меняются, там всегда осень. Даже деревья – и те плакучие. Обступили меня со всех сторон и поникли, как будто растут не из земли, а из скорби.