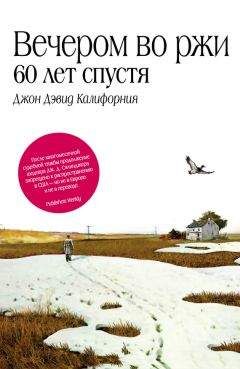Она роется в сумочке. Только сейчас заметил, что у нее в руках что-то есть; клянусь, мимо меня она проходила с пустыми руками. Между тем огоньки делаются ярче и освещают соседний уголок парка. Справа от нас идет цепная реакция микроскопических взрывов, пульсируют лазерные вспышки, образуется электрическая дуга, которая выгибается между деревьями и уходит вдаль. Женщина снова выпрямляется и пристально смотрит в темноту.
Нетрудно представить ее хрупкую фигурку под этим широченным балахоном, тонкие запястья, почти плоскую грудь. Как у балерины. Я ровным счетом ничего о ней не знаю, но почему-то мне ее жаль. Она, как девочка-подросток, утопает в своем огромном пальто. Так и хочется броситься ей на помощь, запустить руки под тяжелый габардин в елочку и вытащить бедняжку из этого колокола, чтобы она могла свободно дышать. Наверное, мне потому приходят в голову такие мысли, что я слышу ее дыхание: частое, короткое. Ловлю ее взгляд на моем лице и только надеюсь, что она не заплачет. Клянусь, я за всю жизнь так и не понял, что нужно делать, когда женщина плачет. Ее взгляд обжигает мне щеку, и терпеть больше нет сил. Надо себя как-то обозначить.
Вы только посмотрите, говорю ей, на этих светлячков.
Голос у меня старческий, усталый.
Они живут всего пять минут в сутки, а остальное – темнота. Двадцать три с лишним часа пустоты.
Не уверен, что ей хочется услышать именно это, но ничего другого сейчас в голову не идет.
Как будто по моей команде вспышки вокруг нас угасают; одна за другой догорают и растворяются во мраке. Она больше не ерзает, руки замерли, как были, прямо внутри сумочки.
У меня… – начинает она и умолкает.
Тут вдоль всей границы парка зажигаются фонари, это надо видеть: вокруг нас теперь кольцо, как гигантское жемчужное ожерелье, упавшее сверху.
У меня… у меня нет выбора, говорит она, и я успеваю заметить отблеск фонаря на чем-то блестящем, что ее рука извлекла из сумки. Заваливаюсь на бок, и все вокруг опрокидывается вверх тормашками. Парк, деревья, фонарные столбы, скамья – все теперь оказывается чуть выше моей головы, ближе к затылку. Вначале я ничего не чувствую, только слышу резкий стук ножа о скамейку, а потом скрип гравия под маленькими туфельками, убегающими в темноту. Отрываю голову от газона, оборачиваюсь и краем глаза вижу ее ноги, которые мелькают, как два белых маятника, под габардиновым куполом в елочку.
Потом мой живот наполняется теплом. Уж не знаю, откуда она появилась и было ли это все на самом деле, однако нож, который я вытаскиваю из-под скамьи, оказывается таким всамделишным, что я тут же роняю его на землю. На некоторое время замираю; подниматься на ноги отчего-то не хочется. Пытаюсь нащупать дырку в животе, чтобы зажать края и не истечь кровью. Говорят, если тебя пырнули ножом в живот, из раны могут кишки вывалиться, поэтому нужно всеми силами удерживать их внутри, чтобы грязь не попала. К тому же здесь, на земле, темнотища, хоть глаз выколи, поэтому я кое-как взбираюсь на скамью, с величайшими предосторожностями сажусь и в тусклом электрическом свете начинаю ощупывать куртку и туловище на предмет дырок. Ощупываю буквально каждый сантиметр, но ничего такого не нахожу, а по мере того как теплая влага остывает, до меня постепенно доходит, что это вовсе и не кровь, а моча. Та бешеная стерва промахнулась, это я всего лишь напрудил в штаны.
Встаю со скамейки, тащусь в восточную часть парка. Слышу поблизости скрип гравия, но уже не понимаю: то ли у меня воображение разыгралось, то ли на самом деле рядом кто-то есть. До меня вроде и шепотки долетают, правда такие тихие, что слов не разобрать, но стоит мне замереть и прислушаться, как они умолкают. При том что я так осрамился, мочевой пузырь еще не успокоился, поэтому я захожу в ближайшие кусты, чтобы полностью облегчиться. Земля все впитывает, а я слушаю слабое журчанье и еще стрекот велосипедов, которые проносятся по дорожке вдоль ограды парка. Мне бы радоваться, что жив остался, но, если честно, будь у меня выбор – уцелеть или отлить, – я бы еще подумал.
Выйдя из парка, останавливаюсь на тротуаре и раздумываю, как быть дальше. После таких передряг у меня ум за разум заходит. Я что хочу сказать: раньше, каких-то шестьдесят лет назад, в городе было не так опасно. Ну, были районы, куда лучше нос не совать, но я неприятностей не искал, а сегодня вон как обернулось.
Только один случай был: нарвался я на этого Мориса, орангутанга чертова, когда занесло меня в какую-то гостиницу, будь она неладна, но чтобы на голову железная болванка свалилась или какая-то психованная тетка на тебя в парке с ножом кинулась – это ни-ни. Уж не знаю, что произошло с этим городом. Видно, не успеваю я следить, как Нью-Йорк меняется. Я даже задумываюсь, не вернуться ли мне в «Саннисайд» или – еще того лучше – не рвануть ли к сыну в Калифорнию, но эта блажь длится недолго. Ровно до тех пор, пока из-за угла не появляется компания девушек. Их всего трое: расфуфырены, вышагивают на высоких каблучках, держась под руки. Смахивают на каких-то диковинных пушных зверушек, фыркают, хохочут в голос и едва меня не задевают, когда проходят мимо. Зубки у всех белоснежные, так и сверкают в ночи, а по пятам за этой компанией призраком летит шлейф ароматов. По мостовой проезжает желтое такси, и девчонки дружно поднимают руки, голосуют. С хохотом и визгом втискиваются в машину. Дверца захлопывается, красные подфарники гаснут, и такси уносится прочь. Я уже простил Нью-Йорку все его грехи. Здесь какой-то особенный воздух, который ласкает тебе нутро, пробирает до костей. Просто не надо соваться в парк после наступления темноты. Не надо расхаживать под строительными лесами. Если вдуматься, совершенно естественные меры предосторожности. Видимо, это я в «Саннисайде» утратил бдительность. А побродил малость по городу – и все встало на свои места.
Кроме того, меня не покидает ощущение, что я сейчас должен находиться не где-нибудь, а именно здесь. Я даже как-то окрылился, но это, наверное, и немудрено, если ты дважды за один день чудом избежал смерти; поэтому я останавливаю такси и еду в центр; глаза слипаются, но я продолжаю высматривать место, где бы переночевать. Когда вижу то, что меня устраивает, недолго думая, прошу водителя тормознуть. «Рузвельт», великолепный старый отель, красуется на Мэдисон-авеню, как король на троне. Здание реально громадное, но другим до него – как до луны. Я что хочу сказать: если сравнивать здания с деревьями, то «Рузвельт» – это секвойя, в Калифорнии такие растут. В этом отеле повсюду красные ковры, даже в лифтах, а вход сверкает миллионом огней. При моем приближении швейцар одной рукой приподнимает шляпу, а другой придерживает дверь, и я поплотнее запахиваю куртку, чтобы мокрое пятно на брюках не слишком бросалось в глаза.