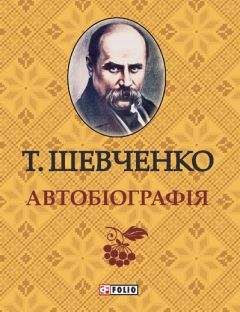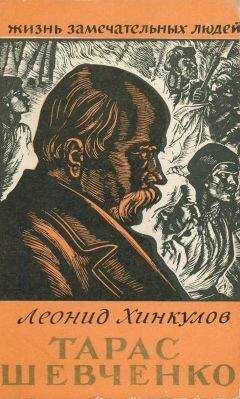Батюшка сидел как приклеенный. То ли Когана испугался, то ли просто спит сидя. Коган хороший, даже в пьяном виде, ну начинает тогда трепаться про независимое еврейское государство в Палестине, так от этого вреда никакого, да и не настолько он набрался сейчас. А нет, зашевелилось духовенство. Оно и понятно, убитых хоронить надо, молитвы всякие над ними читать тоже надо. Пошли–пошли, хробачки уже заждались.
Копали могилу на сажень, для всех: и беляки, и юнкера–пуголовки, и повстанцы, постреляные–порубанные. Одинаковые. Закончили могильщики, в сторону отошли, смолят. Крысюк – самокрутку, Шульга – из портсигара папиросу вытряхнул. Ишь ты! Священник своим делом занимается, молитву заупокойную читает.
– Шапку сними, – Шульга ткнул товарища локтем.
Рядом вот этой Орысе, которая мужа топором, тоже землю выделили.
Пятнадцать хороших бойцов. И немцев били, и варту, и контру разнообразную. А здесь – отвоевались. У Радченка жена была, ждет, наверное, своего горлореза где–то в Скадовске. Котов–фокусник, сволочной был человек. Звезды с лампасами вырезал на пленниках, потому и фокусник. Но шашкой рубал, аж свистело. Грек, фамилию которого никто не мог выговорить, хорошо тот грек юшку варил. Московский человек Максимов, каким ветром его сюда занесло, механиком был, жнейку людям починил. Вдовиченко, не тот, который командир, а тот, который у варты пулемет за мешок картошки выменял. Грива – чи фамилия, чи кличка. Ну как же ж это надо нажраться, чтоб коняку в телегу хвостом вперед запрячь? Дмитрук–самокатчик, на войне на мотоцикле ездил, а с войны куртку кожаную привез, да наган затертый. Хороший мужик был, что в бою, что самогон пить, что девок любить, что школу красить. Павлюк, село с немытой шеей, злющий артиллерист, без пушек, зато с винтовкой. Вельяминов, поповский сынок. Худшего матерщинника и богохульника еще поискать надо. Солдатов, пехтура в немецкой форме. Нашивки–погоны срезал – и вперед. Антоненко–маркист, хоть и неграмотный. Сероштан–черногвардеец, а до того еще и на Красной Пресне бомбами покидался всласть. Резниченко. Три дня женился. Вот вдова удивится. Федотов–кубанец, были у него добрая шаблюка да серый конь. Ни повстанца, ни коня, и даже сабля поломалась. Да Вовк, Сероштана дружок, малой да тощий. Земля вам пухом.
Лось давился квашеной капустой. Если это победа, то кто тогда в случае поражения останется? Командир разве что, он опытный. Самогон как воду пьет. Может, и другим оставить надо? Даже Трохим присмирел, в землю смотрит. Палий, уставился куда–то. Тоже уже набрался дай боже. И вроде сам по себе человек, разве что командир его при себе держит, да и то, по разным поручениям не его гонял, а Гриву, а тоже товарищей жалеет. Да и те, которых балтиец привел, тоже поминают. А если кто–нибудь нападет? Да они ж в сарай не попадут. На том свете протрезвеем. Ну, правда, еще подстреленные есть, и здесь, и в Малой. Так они не бойцы, особенно сейчас. Дожил. Допрогрессорствовался. Сидишь за столом и поминаешь малознакомых людей, да еще и квашеной капустой закусывать, а это дрянь редкая. Из колодца пить боишься, собаки злые, девушки внимания не обращают. В перспективе – или смерть на этой войне, или, если повезет, лет через двадцать, на Второй Мировой, в польской армии. Или, если очень–очень–очень повезет – в маки уйти.
Крысюк в угол забился, поближе к вареникам. И вареники с квашеной капустой. Ничего закусь, особенно если в начинку луку жареного побольше напихать. Да и то – в горло не лезет. Не гулянка все–таки. У, сволота эсеровска! Хлебай, може вдавишься да сдохнешь. Смотрит виновато. Смотри–смотри, пока есть чем. А по–другому – станцию не взять было. Людей мало. А где ж тех людей взять? Кого немцы постреляли, кого – белые, а кого – и вылупки товарища Троцкого. Не, ну есть же и приличные люди, Коган, например, или там его семейство, или еще кто. А есть эта падла в кожанке на личном бронепоезде. От бы его под откос! А если б туда еще Шкуру да Деникина, то был бы прям варшавский цукерок. Крысюк взглянул на священника, ухмыльнулся недобро. Командир из–за стола вылез, шатается, как матрос в увольнении. Идет себе дрыхнуть. Иди, иди, твое щастье, шо грамотных в отряде мало. Да и мне самогонки достанется.
Левчук разлил по кружкам остатки. Если б не повод, то село бы уже стояло на ушах. О, уже кутю дают. Рисовую. Тьху! Но съесть–то ее надо, а то еще обидятся. Придут. А Вдовиченко еще в гости приглашал, говорил, что девок у него в семье на весь отряд хватит – шесть сестер, да он седьмой. Рыдать так будут, что в Харькове слышно станет. А вот по Левчуку ни одна живая душа горевать не будет. Хата была – сгорела, молния попала, пока Левчук германцев бил. Жена – перед войной как раз померла. И не старая же еще была, несла себе воду и упала. И все. Земский врач, сопляк в галстуке, говорил чего–то врачебное, а потом сказал понятными словами, что такое бывает, сердце у нее плохое было. Только та и радость, что малая за год до того на тот свет отправилась. День прожила – и все. Красивый такой ей гробик получился, маленький да беленький. Вот и не боялся уже ничего Левчук–фейерверкер.
Следующее утро выдалось омерзительно солнечным. Жизнерадостно кудахтали куры. Маленький сопливый ребенок под присмотром такой же сопливой сестры копался в земле. Продравшие глаза повстанцы рыскали по селу в поисках офицеров. Может, кто спрятался? Крысюк привел себя в относительно приличный вид – сапоги от глины отчистил, солому из башки трещащей вычесал, и решительно пошел в церковь.
Перекрестился неумело, на священника зыркнул.
– Можете две свечки за упокой поставить? Антону и Андрею? От карбованец, на свечки.
Дождался, пока умилившийся отец Варсонофий просьбу выполнит, перекрестился еще раз и медленно вышел.
Палий сидел на крыльце. Для лузганья семечек было рановато, курить байстрюк не научился. Просто сидел и грелся на солнышке.
– Поставил? Сам?
– Попу сказал, он и ставил.
– Правильно, – байстрюк почесался, – фамилий не назвал?
– Я шо, совсем дурной? И так карбованец потратил.
– Куркуль.
– Голота неженатая.
– На такое дело карбованца жалеешь.
– Если б ты им динамиту купил, штаб подорвать, вот тогда дело верное.
– А если один опоздает, а второй выйдет? Только динамит споганим.
– Динамит ему жалко! – Крысюк плюнул, вскочил с крыльца. Як воно дурне, так и разговаривать с ним нету никакого смыслу. Якименко на него нет, он бы этому вылупку быстро объяснил бы, что да как.
На улицу высунулся этот студент, с козьей ножкой в зубах. Один безмозглый, второй – безрукий. Хоть до хаты дезертируй! Трохим с ведром пошел куда–то. Сменил–таки тельняшку на гражданскую одежду. Напялил железнодорожный мундир и довольный. Что тогда – пугало огородное, что сейчас. Клеши грязные, ноги еще грязнее. И патронташами обмотался, что твой цейхгауз.
– Тут кто–то кому–то обещал ноги поломать, если этот кто–то немедленно не начнет выполнять обязанности санитара, – студент подошел ближе, чтоб не орать на все село, – потому что я сидел с утра. И от еще одного анекдота про Сару я кого–то прибью.
– Так не рассказывай, – Крысюк вытряс из кисета остатки табака и выудил из кармана гимнастерки последний клочок деникинской листовки, – покурю да пойду.
– Да не я! Я б после такого без сознания бы до сих пор лежал, а рыжий – анекдоты травит.
– Что не Константин, то живучая сволота. Да и перед этим кавуноедом скулить ему неудобно. А заодно – у нас командир еще есть?
– Есть, есть. Хлебал рассол и приставал к попадье.
Крысюк покрутил пальцем у виска. Плохая тут самогонка, что и говорить. Да и ситуация такая же. Половина отряда на том свете галушки в раю ест, раненых многовато для быстрого отступления. А надо ж еще кому–нибудь в Малую ехать, может там кто вычухался. Шульгу пускать опасно, он в степи не ориентируется. Лес или болота – это да, он там кумекает, а степь – он уже один раз благополучно от красных дезертировал, потому что не понял, куда ехать обратно. Вот и нарвался на красных, хорошо еще, что зубы им заговорил, да еще хорошо, что все эти лайдаки нашли белых. Тут уже не до выяснения стало. «Он шел на Одессу, а вышел к Херсону», как брякнул один из этих студентов. Странные они, даже для городских. Тот, слепой, говорит, что бухгалтер, а на счетах поделить не может, второй вроде инженер. Господи, если ты есть, пусть это чучело городское кроликов разводит, на продажу. А то точно чего–то не так сделает и будет катастрофа.
И еще этот, слепой, после самогона стал нести черт–те что. Канал какой–то строить ломом и лопатой. Зимой. Надо б с командиром про них поговорить, когда тот протрезвеет окончательно. Крысюк затоптал окурок – еще не хватало кому–нибудь хату спалить – и поплелся выполнять обязанности санитара.
Все вроде живые, Демченко вот приперся, вроде в гости пришел. С какими–то зуболомными пряниками. Щас умру от умиления! Палий с книжкой. Ты ще скажи, что читать умеешь! Спорим, что не выучишься? Сам Крысюк грамоту уже освоил, хоть и пальцы у него от писанины сводило, и чернила на штаны не один раз вылил, и надоела ему эта затея хуже войны, и буквы клятые по ночам даже снились.

![Джордж Ланжелан - Муха [= Муха с белой головой / The Fly (La Mouche)]](https://cdn.my-library.info/books/61807/61807.jpg)