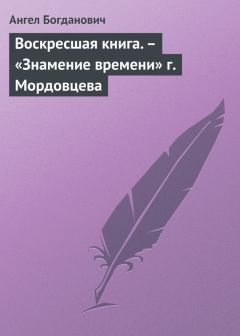Поплыла назад платформа, публика, провожающие, торговки. Всё, прощай, Елисаветинск, тихий, жаркий и пыльный, здравствуй, Гатчино!..
* * *
Вокзал Гатчино-Варшавское встретил их ясным небом, с прозрачной северной синевой, нарядной публикой, и доносившимися из-под стеклянного купола звуками оркестра.
— Весело живут, — заметил папа.
Со стороны выглядело это и впрямь весело. Гуляющие по платформам явно никуда не собирались ехать — дамы с кружевными зонтиками, штатские в вицмундирах, даже сколько-то офицеров в форме.
— Так-с чего ж не жить, барин, — философски заметил бородатый проводник, судя по выправке — явно отставной унтер. — Здесь, грят-с, ресторация лучше-с, чем в самом Питербурхе! Насчёт её не скажу-с, сам не пробовал, а вот буфет — выше-с похвал всяких!.. Музыка играет-с, танцы устраивают!.. Государь, бывает, захаживает, самолично!..
— Ах! — не удержалась романтичная Надя.
Вера закатила глаза.
— Да-с, барин, именно так-с! Коль вам-с тут службу нести-с, так заходите, не побрезгуйте!
— Спасибо, любезный, — папа достал рубль. — Вот тебе за труды. Ты нас в дороге как родных обиходил.
— Рад стараться! — проводник вытянулся и стало яснее ясного, что ещё совсем недавно стоял он в строю. — Премного благодарен, ваше высокоблагородие господин Генерального штаба полковник!
— Вольно, братец, — сказал папа. — В каком полку служил?
— Лейб-Гвардии 2-ой стрелковый Царскосельский! — отчеканил проводник. Распахнул шинель — на груди, под значками и нашивками, виднелся жетон: серебряная Андреевская звезда с наложенным чёрным восьмиугольником, в нём — алый круг с белым вензелем государя Александра Второго.
— Спасибо, солдат, — кивнул папа. — Бог даст, ещё свидимся.
— Бог даст, ваше превосходительство… — отозвался проводник, но голос его, как показалось Фёдору, звучал как-то странно.
* * *
Гатчино, Николаевская улица, дом № 10, на перекрестке с Елизаветинской. Двухэтажное кирпичное здание, перед ним — палисадник; широкие полуарчатые окна смотрят почти строго на закат и на восход. Ну углу — изящная башенка, увенчана шпилем. В правой половине на первом этаже — лавка конторских товаров, в левой половине первого и на втором — квартиры.
Феде новое место сразу понравилась. Во-первых, простор, места много. Семь комнат, как-никак: гостиная, папин кабинет, он же его спальня, столовая, мамин boudoir, комната Веры с Надей, комната нянюшки и, наконец, его, Фёдора Солонова, собственная спальня! Ну, и кухня, конечно, с кладовкой. Новомодная ванна с колонкой, откуда прямо лилась горячая вода! Длинный, тёмный и загадочный коридор с поворотом, где сам Бог велел играть в индейцев, хотя, он, Фёдор, конечно же, для этого уже слишком взрослый.
— Мамá, — капризничала Вера, — ну почему я с Nadine, мне надо заниматься, мне нужно место, а Théodore получает целую комнату, хотя он ещё маленький?..
— Потому что, mademoiselle, c’est un garçon, он мальчик! И в одной комнате с Надин им уже неприлично! — мама умела закатывать глаза никак не хуже старшей дочери.
— L'écran peut être mis, ширму можно поставить, мамá!
Однако мамá, вооружённая «новѣйшими извѣстіями касательно воспитанія дѣтей разнаго полу», не сдавалась.
— Ширму, jeune femme, можно был ставить, пока брат ваш был младше. Атеперь всё!..
— Pourquoi pas toi, Vera, dans la chambre avec moi?[2]— искренне расстраивалась добрая Надя, слушая всё это.
— А по-русски вы что же, не можете? — вклинился Федя в разговор сестёр. — Прям как бабушки наши! Или даже прабабушки!..
— Верно! — поддержал его папа. — Мы не во Франции, милейшее моё семейство.
Вера поджала губы и отвернулась, гордо задрав нос.
А вот нянюшке Марье Фоминичне всё нравилось. Особенно кухня, где, как и в ванне, имелся газовый титан с газовой же плитой[3], на которую она дивилась, как на чудо; и её собственная комнатка, где старушка первым делом поставила на полку писанный в Киеве складень.
А во дворе, где поднимались сирень и липы, теснились по старинке дровяные сараи; невдалеке, на Соборной площади, золотились церковные купола; носильщики затаскивали кофры, родители хлопотали и вообще царила та суета, какая только и бывает при переезде на новое место.
* * *
Первые недели прошли в сплошных хлопотах. Мама с Марьей Фоминичной «обустраивались», папа пропадал на службе — начальник штаба «Особаго гвардейскаго Туркестанскаго стрѣлковаго полка», не шутка! Да, без приставки «лейб-", но это была «молодая гвардия», как говорил папа, части, показавшие себя в жаре и безводье среднеазиатских походов или на заросших гаоляном сопках Маньчжурии. Сестры, Вера с Надей, побывали в женской гимназии Тальминовой, что на проспекте императора Павла Первого, 14. Вернулись довольные, особенно Вера:
— Папá, ты представляешь, там преподают физику по университетскому курсу! По учебнику Хвольсона[4]!
— Oh mon Dieu! — пугалась мама. — Вера! Mon enfant! Помилуйте, ну зачем же юной барышне из приличной семьи какая-то там физика?!
— Мамá, вы сами нам рассказывали, как вам в пансионе её преподавали!
— En quantité appropriée, mademoiselle, в должных количествах! Не по университетскому же курсу!
— А я справлюсь! — упрямилась Вера. — Надо — дополнительно заниматься стану! Уроки брать!
— Jeune femme! — сердилась мама. — Ваш отец старается, он день и ночь на службе, а вы —
— А я и не собираюсь брать у папá! — задорно отвечала старшая сестра. — Я сама уроки давать буду! Вы же знаете — у меня всё очень хорошо и с языками, и с музыкой, и с математикой, и с…
Это было правдой, нехотя признавал Федя. Вера и впрямь отлично училась, всё давалось ей легко, словно безо всяких усилий; к последнему году гимназии она совершенно свободно говорила по-французски, по-немецки и по-английски; непринуждённо исполняла прелюдии Скрябина[5], прекрасно рисовала, в общем, служила постоянным живым кошмаром для Нади и Федора, которым старшую сестру постоянно ставили в пример.
— Какие ещё уроки! — сердилась мама. — Quel terrible enfant!
— Никакой я не «ужасный ребёнок», мамá!
В общем, было весело.
Федор тоже старался при каждом удобном случае улизнуть во двор. Здесь было хорошо — просторно и зелено, дальше по Николаевской начинались особняки и дачи, а если свернуть направо, по Елизаветинской, там потянутся такие же двухэтажные дома с магазинами и лавками на первых этажах, и там чего только не продавалось!
Интересно заходить было всюду. Начиная с писчебумажного, расположившегося в том же доме № 10, только ближе к углу; заворачивая, нырять в книжную лавку, где можно было найти и самые дешёвые приключения Ната Пинкертона, и жутко дорогие, завёрнутые в вощёную бумагу тома «Всемирной истории». Повздыхав над последними выпусками похождений Ника Картера[6], Федя шёл дальше.
А дальше его ждал оружейный магазин, настоящая мальчишеская Мекка, как сказал бы папа.
…Вот и в этот раз Федор поднялся на две ступеньки, потянул на себя тяжёлую резную дверь с тяжёлой бронзовой ручкой. Сердце, как всегда, замерло; здесь, за порогом истинно мужского царства вкусно пахло оружейной смазкой, матово блестели выстроившиеся как на парад воронёные стволы; застыли аристократки-двустволки, словно хвастаясь друг перед другом роскошью гравировки на замковых досках и резьбой, покрывающей ложу; с ними спорили худощавые иностранки, многозарядные винтовки Винчестера или Генри; ещё дальше скромно помалкивали наши берданки — мы, дескать, хоть и староваты, а до дела дойдёт — послужим, да ещё как, не подведём небось!..
В стеклянных витринах устроились разнообразнейшие револьверы и пистолеты, и уверенные в себе наганы, и короткие толстяки «уэбли», и длинноствольные кольты, и брутальные маузеры, и элегантные парабеллумы, и тупоносые браунинги. На всё это великолепие Федор мог любоваться часами, читая и перечитывая приведённые рядом с каждой моделью характеристики. Феде всё это звучало как музыка: «…разработанъ подъ патронъ 7,63 х 25 м/м… отдача короткаго ствола… запираніе за опорныя поверхности на затворѣ… магазинъ неотъемный… снаряженіе изъ спеціальной обоймы…»