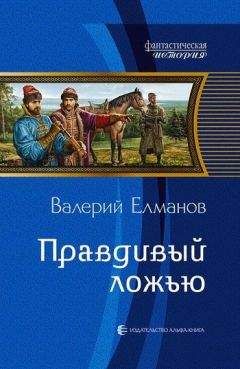– Пусть так, – не стал спорить я. – Но почему непременно убить? – И сразу, коль уж зашла речь о Голицыне, решил исправить допущенную промашку, превращая ее в достоинство, пояснил: – Что до Василия Васильевича, то тут я тоже в сомнениях был, потому и… велел постараться как-то загородить его, чтоб поменьше досталось. Вот он в отличие от всех прочих и жив остался.
– Выходит, я должон еще и в ноги тебе за него поклониться? – криво усмехнулся боярин.
– Выходит так, – серьезно подтвердил я. – Думаю, коль и впрямь нет на нем вины – придет в себя, а если нет… на небе видней. Я же, чтоб он быстрее выздоравливал, нынче же попрошу престолоблюстителя медиков своих к нему прислать.
– За лекарей благодарствую, – небрежно кивнул он, – токмо ты лучше иное поведай: отчего наш государь так все поменял да наизнанку вывернул? Что-то я в толк никак не возьму. Слыхал я, что ты мудер, невзирая на малые лета, вот и растолкуй мне смыслу.
С ответом я не спешил. Кивнув в сторону принесенных бочонков, вокруг которых, как кот возле сметаны, прохаживались оба казака, дежурившие у калитки, осведомился:
– Сами вначале опробуем или сразу казачкам отдадим?
Басманов пытливо посмотрел на меня, затем поинтересовался:
– А откель винцо? Неужто из терема Годуновых приволокли?
– Да нет, гораздо ближе, – пояснил я. – Во-он из того терема.
Боярин оглянулся в указываемую мной сторону, насмешливо улыбнулся и, встав из-за стола, направился к бочонкам. Вытащив пробку-затычку у одного из них, он некоторое время принюхивался, после чего, сделав определенный вывод, молча махнул рукой, давая понять казакам, что отдает им.
– Так я и мыслил, – заметил он, вновь усаживаясь за стол. – У этого дьяка путного винца отродясь не бывало. – И сразу, без перехода: – А что ж ты мне не ответил? Али нечего поведать?
– Милостив наш государь, – улыбнулся я. – Милостив и добр. Наездился по Европам, нагляделся гуманизма, заповеди божьи припомнились, особенно пятая, вот и решил, как Христос заповедал, простить брата своего. Тем более у Федора Борисовича и семи грехов не наберется, а уж до семижды семи ему еще столько же лет прожить надо, если не больше.
– Ты всерьез? – тихо спросил Басманов, и ложка, которую он поднес ко рту, так и застыла в его руке.
Серые глаза глядели с удивлением. Мол, вроде бы рассказывали, что ума палата, а тут, оказывается, совсем иное и чуть ли не наоборот.
– А если всерьез, то он мне некогда словцо дал, что оставит царевича в живых, да при этом еще и крест целовал, – пояснил я. – Правда, у иных людишек память уж больно коротка, склерозом болезнь оная прозывается, но коль напомнить, да еще вовремя, многих бед можно избежать. – И не сдержался, посетовав: – Жаль, что тебе про крест целованный, когда ты под Кромами пребывал, никто напомнить не удосужился. Пожалуй, случись такое, то и брат твой названый ныне в здравии пребывал бы. Ты сам-то не задумывался, что с ним эдакое приключилось как раз из-за того, что ты клятву нарушил?
– А пущай не обманывают, – буркнул он, нахмурившись и глядя куда-то в сторону. – Ну и куда второй поволок?! – раздраженно гаркнул он на казака с бочонком в руках. – Вам покамест и одного за глаза, а то ворог только того и ждет, чтоб захмелели. – На месте боярину не сиделось. Он встал с лавки и неспешно прошелся вдоль нее. Затем резко повернулся и хмуро посмотрел на меня, продолжив: – На словах эвон какие щедрые. Всем чем хочешь тебя одарим, даже про венец с Ксенией Борисовной намекнули, а яко до дела дошло, так какого-то Хрипуна[20] поперед меня сунули. Это по-каковски?
Так оно и есть. Правильно я угадал, когда сидел в темнице у Семена Никитича.
А с другой стороны, с ума они все тут посходили, что ли, – из-за такой ерунды и… Нет, умом здешних бояр мне не понять и аршином общим их придурь тоже не измерить – уж больно она длинная.
Вслух же поинтересовался:
– А если бы ты ныне услышал, что Федор Борисович о том ни сном ни духом, обратно бы не перешел?
– К кому? – насмешливо усмехнулся Басманов. – К царю, у коего под носом эдакое вершат, а он не ведает? Так ведь вдругорядь еще кто-нибудь прыткой впишет, мол, отвести Петрака Басманова на Болото да главу ему с плеч долой. И ссекут, ей-ей, ссекут, а царь-батюшка, прознав про то опосля да сидючи на могилке моей, сызнова слезу лить учнет, он на них гораздый: «Ахти мне, а я про то и знать не знал». Нет уж, ежели я слово дал – обратно не поворочу. – И протянул: – Стало быть, напомнил ты Дмитрию Иоанновичу про крест целованный, потому он, припомнив обещанное, и соизволил простить Годуновых. – И со вздохом заметил: – Не-эт, все одно не понять мне ныне государя.
– Не только потому, – пояснил я. – Тут и еще кое-что имелось…
Если быть кратким, то я повторил боярину все доводы, которые уже приводил Дмитрию в Серпухове, разве что более расширенно.
Но помимо прежних, о гуманизме, доброте и великодушии, я добавил и ряд других, утверждающих, что это прощение выгодно в первую очередь для самого царя.
Получалась своего рода предварительная обкатка моей будущей речи перед чудом воскресшим «сыном» Иоанна Грозного.
– Ну что, убедил? – осведомился я у Басманова.
– Хитро удумано, – кивнул он. – Одно жаль – поранее бы Дмитрию Иоанновичу оное измыслить. Глядишь, и Василий Васильевич в добром здравии ныне пребывал бы, да и у нас с тобой, как знать, иная говоря была бы, на одной лавке, бок о бок, а не супротив, яко ныне.
– Насчет лавки исправить легко, – подсказал я. – Мне пересесть недолго.
– А тут хошь пересаживайся, хошь нет – все одно, – не согласился он. – Кровь меж нами. Да не просто кровь, а брата. Ей цена вдвое.
– Это кого же ты величаешь братом?! – возмутился я и в свою очередь встал из-за стола. – Батюшка его тебе и впрямь был в отца место, а этот… Он и под Кромами тобой заслонился. – Кое-какие подробности мятежа я уже знал из разговоров казаков, так что говорил уверенно. – Ишь чего удумал – связать себя велел, чтоб в случае чего чистеньким остаться. Да и тут, в Москве… Напрасно ты себя с ним равняешь – разные вы. Ты – воин, а он – кат. Да и не я его убивал – народ постарался, и… довольно о нем, – отмахнулся я. – Много чести будет, чтоб двое воевод о каком-то палаче разговоры вели.
– Хошь и кат, но брат, – заупрямился Басманов. Он наконец присел, жадно отхлебнул из своего кубка и долил из стоящей на краю корчаги еще. – И на расправу люду московскому отдал его ты.
– Вначале он моего брата велел убить, – тихо сказал я. – А я в долгу ни у кого быть не люблю и всегда плачу честно. Лучше скажи, что теперь мыслишь делать?
– А чего тут мыслить? – развел руками он. – Коль пропустишь – уеду. Ежели ныне в Москве воля Федора Борисыча, мне в граде все одно делать нечего.