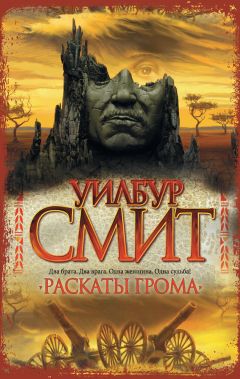Это косвенное упоминание о пушках заставило всех посмотреть на Буллера: Дандоналд явно не считался со знаменитым нравом генерала. Но, пэр Англии, он мог позволить себе рисковать. С вежливой наглостью встретив взгляд Буллера, он не отводил глаз, пока генерал не потупил свои рачьи глаза.
– Джентльмены, – тяжело заговорил Буллер. – У всех у нас был тяжелый день, и нам еще предстоит много дел. – Он взглянул на адъютанта. – Клери, будьте добры поднять тост за королеву.
Гарри в одиночестве шел хромая от большой палатки, где размещалась офицерская столовая. Обширное поле светящимися конусами покрывали меньшие палатки, освещенные по-разному, а над ними темный атлас ночного неба был расшит серебряными звездами.
Вино, выпитое за вечер, шумело в голове, и Гарри не замечал нависшей над лагерем унылой тишины.
Когда он вошел в свою штабную палатку, со стула у его стола встал человек. В свете лампы видно было, что лицо у него осунулось и в каждой линии тела проступает усталость.
– Добрый вечер, сэр.
– Вы пришли с отчетом?
– Да, сэр.
– Скажите, Кертис, много ли жертв?
В этом вопросе чувствовалось оживление, которое показалось Кертису отвратительным. Он не спешил с ответом и задумчиво разглядывал лицо Гарри.
– Мы понесли тяжелые потери. Из двадцати человек четверо погибли, двое пропали без вести, пятеро ранены.
– Вы приготовили список?
– Еще нет.
– Тогда скажите, кто они.
– Убиты Бут, Эймери…
Не в силах больше сдерживать нетерпение, Гарри выпалил:
– А этот сержант?
– Вы имеете в виду Кортни?
– Да, да.
Возбуждение смешивалось со страхом, и от этого внутри ощущалась пустота.
– Ранен, сэр.
Гарри испытал такое сильное облегчение, что должен был закрыть глаза и глубоко вдохнуть.
Шон жив. Слава Богу. Слава Богу!
– Где он сейчас?
– Его отправили в железнодорожный госпиталь. С первой группой тяжело раненных.
– Тяжело?
Облегчение Гарри сразу сменилось озабоченностью, и он хрипло спросил:
– Насколько тяжело? Насколько?
– Мне не сказали. Я пошел в госпиталь, но меня к нему не пустили.
Гарри тяжело сел и невольно потянулся к ящику, прежде чем спохватился.
– Хорошо, Кертис. Можете идти.
– Остальная часть доклада, сэр?
– Завтра. Оставьте это до завтра.
* * *
Ощущая в желудке жар вина, Гарри в темноте шел к госпиталю. Теперь не важно, что он замышлял смерть Шона, надеялся, что тот погибнет. Он больше не рассуждал, просто шел по обширному лагерю, подгоняемый отчаянной потребностью.
Он не сознавал этого, но в нем всегда жила надежда, что он снова сможет черпать силу и утешение из того источника, откуда черпал когда-то давно. Он побежал, неловко, поднимая на каждом шагу пыль.
Лихорадочные поиски в госпитале; Гарри шел вдоль рядов носилок, всматриваясь в лица раненых, – боль, искалеченные тела, сквозь белые повязки красными чернилами медленно просачивается смерть. Стоны, бред, горячечный смех. Запах пота, смешанный с тяжелым зловонием разложения и дезинфицирующих средств… но он едва замечал все это. Ему нужно было одно лицо, только одно. И он его не находил.
– Кортни. – Медик разглядывал список, поднеся его к лампе. – А! Да. Есть такой. Сейчас посмотрим. Да! Его уже отправили – первым поездом час назад… Не могу сказать, сэр, вероятно, в Питермарицбург. Там устроен большой новый госпиталь. Не могу сказать и этого, сэр, но в списке он обозначен как тяжелораненый… но это лучше, чем в критическом состоянии.
Закутавшись в одиночество, словно в плащ, Гарри вернулся к себе.
– Добрый вечер, сэр.
Его ждал слуга. Гарри всегда всех заставлял ждать. Этот новый, они так быстро меняются. Ни один денщик не задерживался у него дольше чем на месяц.
Гаррик протиснулся мимо него и почти упал на кровать.
– Осторожней, сэр. Позвольте вам помочь.
Голос оскорбительно услужливый, таким разговаривают с пьяными. Прикосновение его рук привело Гарри в ярость.
– Оставь меня. – Он отшвырнул денщика ударом сжатого кулака по лицу. – Убирайся, оставь меня!
Слуга неуверенно потер щеку и попятился.
– Убирайся! – зашипел Гарри.
– Но, сэр…
– Убирайся, черт побери! Прочь!
Денщик вышел и неслышно опустил за собой клапан палатки.
Гарри подошел ко входу и завязал шнуры. Отошел. «Теперь я один. Они меня больше не видят. И не могут надо мной смеяться. Не могут. О Боже, Шон!»
Он повернул прочь от выхода, споткнулся на протезе и упал. Один из ремней порвался, и нога подогнулась. На четвереньках пополз через всю палатку к буфету, а нога, подпрыгивая, волочилась следом.
Стоя на коленях у буфета, он достал из ящика фарфоровое блюдо, сунул руку в образовавшееся углубление и отыскал бутылку.
Пальцы были слишком неуклюжи, чтобы извлечь пробку; он вытащил ее зубами и выплюнул на пол. Потом поднес бутылку к губам, и его горло ритмично задергалось с каждым глотком.
Немного бренди пролилось на рубашку и смочило ленточку Креста Виктории.
Гарри опустил бутылку и передохнул, морщась и тяжело дыша от крепкого напитка. Потом стал пить медленнее. Руки перестали дрожать. Дыхание выровнялось. Он протянул руку, снял с верха буфета стакан, наполнил его, поставил на пол рядом с ним бутылку и устроился возле комода в более удобной позе.
Перед ним под неестественным углом торчала на порванных ремнях искусственная нога. Он разглядывал ее, медленно прихлебывая бренди и чувствуя, как немеют вкусовые пупырышки языка.
Нога была центром его существования. Бесчувственная, неподвижная, тихая, как глаз сильной бури, в которую превратилась его жизнь. Нога, всегда нога. Всегда только нога.
Теперь, под умиротворяющим влиянием выпивки, из неподвижности, центром которой была нога, он взглянул на гигантские тени прошлого и обнаружил, что время не тронуло, не исказило, не смягчило их, а сохранило вплоть до мельчайших подробностей.
Пока эти тени проходили в его сознании, ночь свернулась и время утратило смысл. Часы стали казаться минутами, уровень бренди в бутылке все понижался, Гарри сидел у буфета, отхлебывал из стакана и смотрел, как уходит ночь. На рассвете перед ним развернулся последний акт трагедии.
Он сам в темноте под мягким холодным дождем скачет верхом в Тёнис-крааль. Одно окно кажется от света лампы желтым прямоугольником, все остальные окна фермы темные.
Необъяснимое предчувствие близкого несчастья охватывает его, холодное и мягкое, как дождь, тишину нарушает только стук копыт лошади по гравию подъездной дороги. Грохот деревянной ноги, когда он поднимается по ступенькам парадного крыльца, прохлада медной ручки в руке, когда он поворачивает ее и толкает дверь внутрь, в тишину.
Его собственный голос, неуверенный от выпивки и ужаса.
– Эй! Где все? Энн, Энн! Я вернулся.
Синий огонь его спички, запах серы и парафина (он зажег лампу), лихорадочный стук деревянной ноги в коридоре.
– Энн! Энн, где ты?
Энн, его жена, лежит на кровати в темной комнате, обнаженная; она быстро отворачивается от света, но он успевает увидеть ее мертвенно-бледное лицо с распухшими, в синяках, губами.
Лампа со стола бросает разбухшие тени на стену, Гарри наклоняется и осторожно прикрывает ее наготу нижними юбками, потом поворачивается к жене.
– Дорогая! Энн, дорогая, что случилось?
Сквозь прореху в рубашке ему видны ее увеличившиеся груди, темные, разбухшие за беременность соски.
– Ты ранена? Кто? Скажи, кто это сделал?
Но она закрывает руками лицо и разбитые губы.
– Дорогая! Бедняжка… Кто это сделал? Один из слуг?
– Нет.
– Скажи, Энн, что случилось?
Она быстро садится, обхватывает его шею и прижимается так, что ее губы оказываются возле его уха.
– Ты знаешь, Гарри. Ты сам знаешь, кто это сделал.
– Нет, клянусь, не знаю. Скажи.
Ее голос напряженный и хриплый от ненависти, произносит одно слово, наполняющее его невероятным ужасом:
– Шон!
– Шон! – громко повторяет он в пустоту. – Шон. О Боже! – и потом свирепо: – Я ненавижу его! Ненавижу! Пусть он умрет, Боже, пусть он умрет!
Гарри закрыл глаза, теряя связь с реальностью, и почувствовал первый приступ головокружения: бренди наконец подействовало в полную силу.
Теперь уже поздно открывать глаза и искать кровать в углу палатки – головокружение началось, и теперь его не сдержать. Острый, кисло-сладкий вкус бренди заполнил горло, рот и нос.
Когда слуга утром нашел его, Гарри одетый, в грязном мятом мундире спал на кровати.
Слуга неслышно опустил клапан палатки и принялся разглядывать хозяина, морщась от запаха перегара и рвоты.
– Здорово выпил, колченогий, – без всякого сочувствия произнес он. Потом поднял бутылку и увидел, что в ней еще на дюйм осталось бренди. – Твое проклятое здоровье, пьяница. – Он осушил бутылку, облизал губы и снова заговорил: – Ну хорошо! Пора приводить себя в порядок.