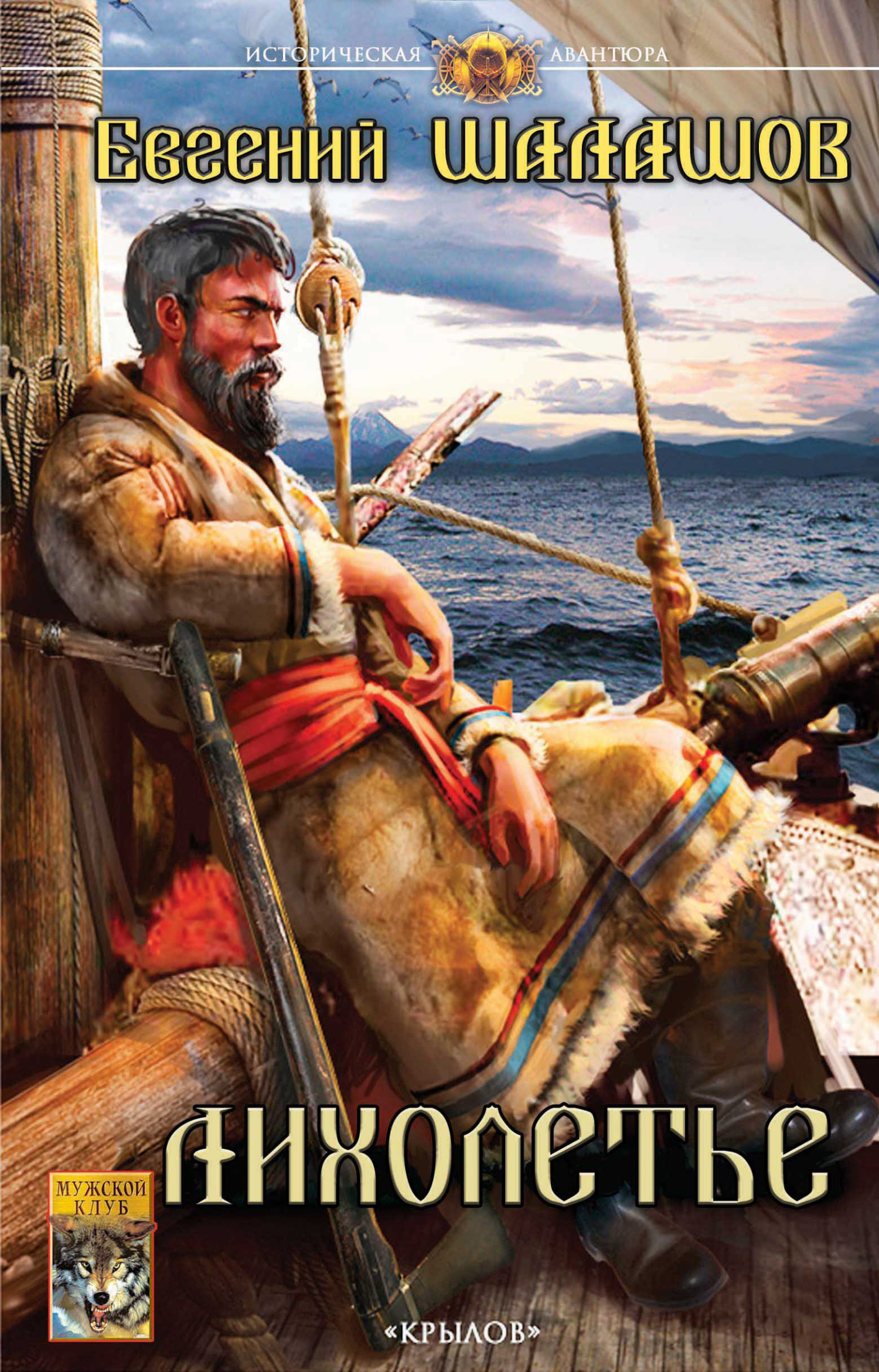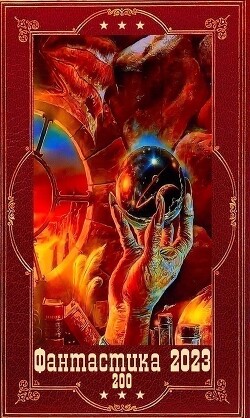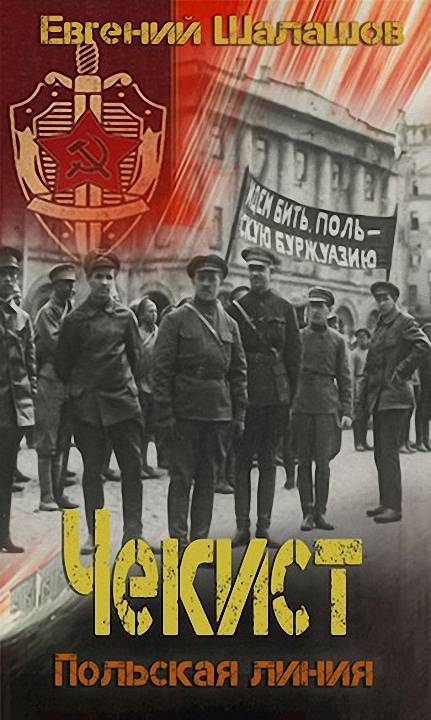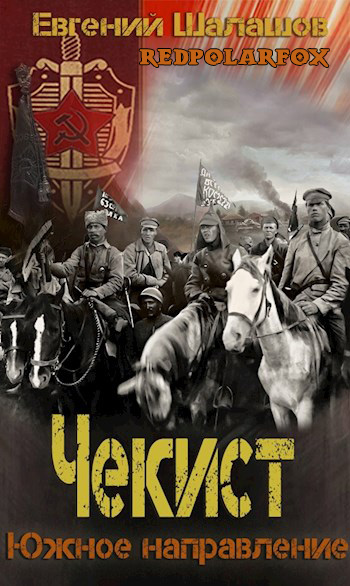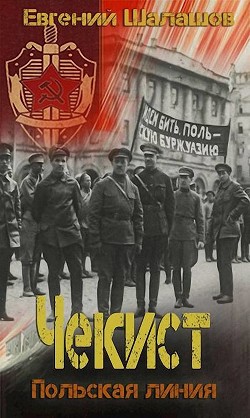велел попридержать до завтра. Завтра, как выспится народ, опять баню топить, а жбанчик – как найденный будет!
Акулина принесла скляницу с добрый гарнец, вытащила береженые чарки, оставленные с прошлой добычи, выставила миску с квашеной капустой. Подумав, добавила пяток луковиц.
– Ну, за здоровье, – осушил свою чарку атаман и бросил в рот щепотку капусты. Выпили, зачмокали капустой, захрустели луковицами.
– Надобно, чтобы между первой и второй стрела не пролетела! – засуетился Максимка, а атаман благодушно кивнул.
– Евфимию больше не наливай! – строго сказал Никита, кивнув на сына, задремавшего от сытости и выпитой чарки.
Максимка кивнул – знаю, мол, самим мало! Выпив и снова захрустев, мужики заговорили. Видимо, все думали об одном и том же…
– Стоило Павлуху-то одного оставлять? – поинтересовался Матюшка Зимогор.
– А я что, силком его потащу?! – окрысился атаман. – Говорил. Так ведь ему, дурню, хоть кол на голове теши.
– Да это я так, – миролюбиво пожал плечами Зимогор. – Вольному – воля. Только ежели жив Павлуха останется – гнать его надобно в три шеи…
Атаман кивнул. Матюшка, даточный человек, послуживший в обоих ополчениях – и у Ляпунова, и у Пожарского, был у атамана правой рукой. Или, по-новомодному, – есаулом.
– Почему гнать? – удивился Максимка, едва не пролив вино. – Он же не к бабе пошел, а ляхов ловить.
Онцифир, поглядев на есаула, кивнул – скажи, мол, почему…
– Гнать надо, потому что приказ не исполнил, – степенно пояснил Матюшка. – Онцифир Митрич что приказал? Приказал – в стан возвращаться. Стало быть, должен всякий его приказ исполнять. А Павлуха, почитай, что убег… У Пожарского, если убег не в бою, – порка положена. В бою убег – казнят!
– Дед, ты за болотами давно не был? – поинтересовался Онцифир.
– Дня с три назад ходил, – обтер губы Мичура, сидевший над одной-единственной чаркой.
– Че говорят?
– А че? – пожал дед плечами. – Все то же бают. Ляхи да татары лютуют. Откуда-то вотяки с вогулами пришли, Вологду опять пожгли. В Рыбной слободе татары турок вырезали, а тамошний воевода татар вниз головой вешать приказал. Говорят, так до сих пор и висят.
– До сих пор и висят? – спросил атаман, с сомнением покачав головой. – Про Рыбную слободу мы еще осенью слыхали… Тут уж никакая бы веревка не выдержала, сгнила б давно.
– Ну, за что купил – за то и продаю, – обиделся старик.
– Ладно, дед, – похлопал его по плечу атаман. – Давай-ка выпьем. Максимка, наливай…
Дед, осилив-таки чарку, с сомнением пожевал верхнюю губу беззубой челюстью:
– Ну, что еще и рассказать… Слыхал, на Москве опять буча. Боярин какой-то против ляхов пошел.
– А, бояре… – скривился Максимка. – Толку-то от них.
– Это точно, – согласился атаман. – Просрали Россию, чего уж…
Атаман с трудом продрал глаза и попытался привстать. Привстал, но тяжеленная голова уронила тело обратно. «Мать твою… – с трудом пошевелил мозгами Онцифир. – Надо ж было так ужраться!..». То, что творилось вчера, помнил смутно. Вроде, когда вылакали скляницу, стали искать еще. У запасливого деда обнаружилась бражка, которой хватило на пару чарок. Не-а, не чарок. Бражку разливали по кружкам… Потом… А потом, вроде бы, послали кого-то в деревню. А кого посылали? Дорогу через болото знали трое – он сам, дед Мичура и Акулина. Он – точно не ходил, не по чину. Дед? Нет, дед после бражки упал под стол и оттуда уже не вставал. Акулина?
Онцифир с трудом перевернулся на брюхо. Стало полегче. Правда, захотелось до ветру. Полежал, надеясь, что расхочется. Не проходило. Кряхтя, как старик, атаман приподнялся и с трудом, по стеночке, запинаясь за спящих мужиков, пошел к выходу. Открыв дверь, впустил в избу немного свежего воздуха и света…
– Е-мое, – выматерился атаман, рассмотрев представшее зрелище. Дед Мичура, свернувшись в калачик, так и лежал под столом. На столе спал Афонька Крыкин. Мужик был в шапке, в тулупе, но без штанов!
«Куда это он штаны-то девал?» – удивленно подумал Онцифир и вспомнил, что Афоньку-то и отправляли за вином! Мужик принес ведерный жбан, а потом долго сушил мокрые штаны, покрытые болотной грязью. – «Мать твою…» – запоздало спохватился атаман, представив, как пьяный мужик шел пять верст по болоту, а потом – обратно!
С лавки приподнялась всколоченная голова Максимки.
– Атаман, дверь закрой. Холодно! – чуть слышно сказал мужик и уронил башку обратно.
А ведь и впрямь холодно. Дрова в печурке прогорели, а камни холодные, как лед. Онцифир покрутил носом. «Не загорелось чего?» – обеспокоился атаман, почуяв дым, и выскочил наружу.
Посредине островка, между баней и людской избой, горел костер, возле которого сидел человек. «А, тогда ничего», – успокоился Онцифир, отбегая за угол. Делая утреннее дело, атаман вспомнил, что этого мужика тут не должно быть…
– Здорово, атаман, – сказал Павлуха и улыбнулся своей всегдашней улыбкой, от которой становилось жутко.
– Здорово, – отозвался Онцифир, подсаживаясь рядом.
– Башка трещит? – поинтересовался Павлуха.
– Как в колокол сунули… – хмуро ответил Онцифир, подрагивая от холода, и спросил: – Ты как тут оказался-то? Мы уж, грешным делом, за помин твоей души выпили.
– Слышал, – хохотнул Павлуха. – Я ж вчера за Афонькой шел. Поначалу-то сидел у болота, думал – как бы мне в стан-то пройти? А тут, гляжу – Афонька, со жбаном прям по болоту прется! Ну, я за ним и пошел. Думаю – потопнет, так хоть увижу, куда ступать-то не след. А ему, дураку пьяному, хоть бы хны! Так вот и пришел.
– Так всю ночь и просидел? – удивился атаман, забывая о похмелье.
– А че делать? К вам сунулся – дым коромыслом. Ты, когда меня увидел, завопил – «Во, Павлухина душа пришла! Душа, давай выпьем!». Ну, выпил я, понятное дело, к Акулине пошел. И там не лучше. Фимка, засранец, с бабы всю ночь не слезал. А эта дура только квохтит, да кудахчет, как курица. Костер развел, да соснул маленько.
– Ни хрена себе… – протянул атаман, пытаясь вспомнить, когда ж он предлагал выпить душе Пав-лухи… Но так и не вспомнил.
– Похмеляться будешь? У меня есть…
– Похмеляться? – задумчиво переспросил Онцифир. Хотел отказаться, но Павлуха уже вытаскивал из мешка кожаную фляжку…
– Давай, по глоточку, – сказал Павлуха, отхлебнув из фляжки и передавая ее страждущему.
Атаман, сделав глубокий глоток, задержал дыхание. Ух ты, лепота! В голове стало проясняться, а рожа Павлухи уже не казалась такой страхолюдной.
– Баклажку-то у ляхов забрал? – поинтересовался Онцифир, рассматривая фляжку. Явственно видно, что не у нас делали – кожа не простая, а с медными вставками, а горлышко медное, точеное. Сбоку, по коже, шло клеймо – не то птица какая-то, со змеиной башкой, не то змея с крыльями.
– У них, – кивнул Павлуха.
– И как ты умудрился-то?
– Да так, – сказал мужик, зевая во весь рот. – Вы токо ушли, а тут обоз ляшский. Шел и шел следом. В последний-то воз лошадь была доходная впряжена, отстали сани. И возчиков двое. Один – из панов будет, а второй вроде бы наш.