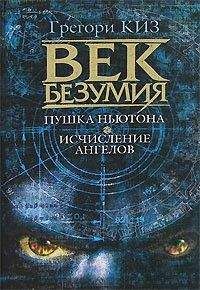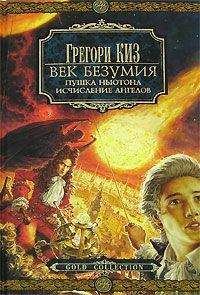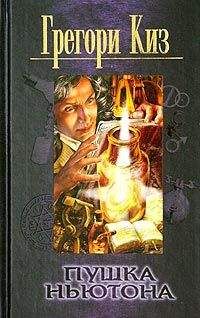Треугольный парус оглушительно хлопнул, поддавшись налетевшему порыву ветра, при этом гик резко повернулся на шестьдесят градусов. Бен машинально наклонил голову, не столько испугавшись удара увесистой деревянной балки, сколько следуя примеру Джона Коллинза. Он крутанул руль так, чтобы максимально использовать силу ветра, и направил лодку хорошим ходом вверх по Чарльз-Ривер. Налетев откуда-то сзади, ветер принес густые солоноватые испарения болот Роксбери, запах дыма, валившего из труб трех тысяч домов, и запах смолы с многочисленных судоверфей. Таким образом, их настиг призрак Бостона, невидимый, но осязаемый.
Джон оторвал глаза от страницы, которую читал.
– Весьма оригинально, – воскликнул он. – Ты уже набрал этот текст, ну или хотя бы прочитал?
– Он только что пришел, – ответил Бен, – поэтому читай вслух и погромче.
– Я прочитаю лишь интересные места и начну с самого начала письма.
Сэр!
Многие иностранцы, побывавшие на нашем континенте, непрестанно жалуются, что Новая Англия не может похвастаться хорошей поэзией.
Джон сделал паузу, в глазах его прыгали веселые искорки.
После чего мне показалось, что я должна открыть миру красоту нашей отечественной поэзии.
– А почему бы не сделать очевидное, но невидимое – видимым, коль в том есть необходимость, – заметил Бен.
– Слушай дальше. Тут она приводит образцы «нашей» поэзии. Для примера она выбрала «Скорбную элегию на смерть г-жи Мегитебель Кайтель, жены г-на Джона Кайтеля, владельца „Салем и сыновья“.
– Представляю, какой это подходящий примерчик, – хихикнул Бен.
– Она называет его: «Одно из самых необычных стихотворений, когда-либо написанных в Новой Англии, трогательное, возвышенное, обладающее естественной, непринужденной рифмой». Вот послушай, здесь есть отрывок из этого «необычного» стихотворения. – Джон откашлялся и затянул, как похоронную песнь:
О, давайте скорбеть и плакать по жене,
дочери и сестре,
Чья душа улетела, отринув прах,
На заре.
И далее:
Незадолго до того, как богу душу отдать,
Молвила: «А псалма-то мне больше не услыхать».
Прежде чем отойти, поцеловала супруга,
Как лучшего друга.
Голову опустила
И тихо глаза закрыла.
Смех душил Джона, он не мог читать:
– Ты только послушай, какие рифмы: «сестре – на заре», – он снова рассмеялся, вытирая с глаз слезы, – «опустила – закрыла»!
– Очень трогательно, – поддакнул Бен, – очень возвышенно.
– Скорее напыщенно!
– Просто очень ловко написано. Строчка «… скорбеть и плакать по жене, дочери и сестре» сообщает нам о смерти не одной, но сразу трех женщин. А это уже, согласись, настоящий талант – сказать о многом в немногих словах. Это ли не возвышенно.
Джон нахмурился:
– Понятно. Ты уже читал это. Бен покачал головой:
– С чего ты взял?
– Да потому что именно эту мысль мадам Смиренная Добродетель утверждает в следующем параграфе своей статьи.
– Ну и что с того, – невинно удивился Бен, – эта мысль лежит на поверхности, ее трудно не заметить. Ну, давай читай дальше.
Джон подозрительно посмотрел на него:
– О многом немногими словами, говоришь, да она же дает образец, по которому каждый может написать свою собственную элегию.
– Хорошее дело.
– Очень хорошее. Главное – выбрать нужную персону, чтобы воспеть в творении какого-нибудь там убитого, или утонувшего, или на морозе замерзшего.
– Уж лучше их воспевать, чем повешенного за кражу цыпленка.
– Да, уж куда лучше.
– Надо воспевать тех, у кого нет общепризнанных добродетелей, – продолжал развивать свою мысль Бен. – Хотя, знаешь, я думаю, что смерть возвеличивает человека, даже если при жизни у него и не было особых достоинств.
Джон снова нахмурился:
– Говорю тебе, ты уже читал эти стишки, черт тебя подери. Зачем ты тогда заставляешь меня снова их тебе читать?
– А ты действительно считаешь, что все это чушь, нелепая и смешная? – совершенно серьезно спросил Бен. – Неужели чувствительный стишок, написанный искренним и глубоко скорбящим человеком, заставляет тебя смеяться до слез?
– Скорбь человека не может служить извинением его плохим стихам, – отчеканил Джон. – Если человек не может скорбеть изящно и выразительно, то пусть он по крайней мере скорбит молча. Но знаешь, мне кажется, что все эти критические рассуждения мадам Смиренной Добродетели очень уж остроумные, я бы даже сказал, они – самое примечательное, что я когда-либо видел на страницах газеты твоего брата. Возможно, ты просто еще не оценил по достоинству хорошо завуалированную иронию этой дамы.
Бен усмехнулся:
– Я-то высоко ее ценю, а вот что сейчас будет с твоей оценкой.
– Что ты хочешь сказать?
– Хочу сказать, что под именем Смиренная Добродетель скрывается не какая-то там остроумная дама, а я, соломенная ты голова, Джон.
С минуту Джон ошарашенно смотрел на Бена и наконец выдавил:
– Эта мадам Смиренная Добродетель – ты?
– Именно, – подтвердил Бен, стараясь казаться беспечным. Хотя знал, что его идиотская улыбка наводит на мысль, будто он лжет.
– Клянусь, я б никогда не догадался. Вообще-то это очень на тебя похоже! А брат знает об этом фокусе?
– Тебе стоило бы полюбоваться, как он и его читатели ломают головы, стараясь угадать, кто подсовывает им под дверь «писульки» этой добропорядочной дамы.
– Ну и кого они подозревают? – весело спросил Джон.
– Звучат имена самых выдающихся литераторов, – ответил Бен. – Представляешь, как это льстит моему самолюбию.
– Как это может льстить твоему самолюбию, если никто не знает, что это твои сочинения?
– Но я-то знаю. А вот если бы Джеймсу это стало известно, то он никогда бы ничего такого не напечатал. Поэтому я совершенно спокойно могу предлагать свои творения на суд читателей, не боясь, что моя персона пострадает от лести или от критики. – Бен предусмотрительно умолчал о своем страхе пострадать от самого обычного и заурядного тумака.
– Я бы на твоем месте желал, чтобы все знали, что это мои творения. Я бы хотел получать причитающиеся мне вознаграждения.
Бен пожал плечами:
– Жаль. Я так надеялся, что у моей Смиренной Добродетели появится достойный оппонент.
– Да ты не волнуйся, у нее найдутся достойные оппоненты. Ее намеки так прозрачны, притом они частенько нацелены на членов городского управления.
– Да, мы уже получили несколько писем от тех, кто не согласен с добродетельной вдовой. Но я-то думал, что мы могли бы направить все эти дебаты в нужное русло, вести их более остроумно, высмеивая глупости обеих сторон.
– И я тоже должен буду скрываться под другим именем? – спросил Джон.
– Ну а что в этом такого, Джон Коллинз? Это будет забавно, разве не так?
– Возможно.
– Подумай, Джон. Выйдет отличное состязание.
– Я подумаю. А пока скажи мне, удалось ли тебе перехватить что-нибудь новенькое из любовных посланий с математическими формулами?
Бен воздел палец к небу.
– А! – Он ухватился за гик, чтобы не потерять равновесия и чтобы гик случайно его не ударил, пока он, повернувшись назад, ищет что-то в ворохе бумаг. Наконец он извлек оттуда свиток, перевязанный лентой. – Вот тебе подарок, – сказал он, протягивая свиток Джону.
– Интересно, у тебя дел было по горло, как ты…
– Я выкроил время, чтобы сделать тебе приятное, – перебил его Бен.
– А я вот все думаю, не изобрести ли нам еще один «франклиновский» прибор, – сказал Джон, развязывая ленту.
– Пожалуйста, не называй приборы «франклиновскими» и никому не говори, что это я их делаю, – забеспокоился Бен.
– Хорошо, хорошо, – раздраженно ответил Джон. – А ты что, разве не хочешь извлечь какую-нибудь пользу или хотя бы получить благодарность за свой труд?
– Да какая ж мне польза оттого, что кто-то еще сделает подобный настраивающийся самописец? Тогда нам с братом прямая дорога в богадельню.
Джон насупился:
– Я думаю, причина не в этом. Неспроста ты подписываешься вымышленным именем, держишь свое изобретение в тайне…
Бен тяжелым взглядом уставился на Джона. Неожиданно его осенило: Трэвор Брейсуэл успел пообщаться по поводу harmonicum не только с ним.
– Джон… – начал он.
– Ну что?
– После того эксперимента на пруду, ну помнишь, с harmonicum, ничего такого с тобой не происходило… особенного?
Джон чуть заметно кивнул, по лицу его пробежала тень. Он тяжело вздохнул.
– Я не хотел говорить… Я хотел спросить… – Ему никак не удавалось сохранить спокойный и уравновешенный тон. Он судорожно сглотнул и испуганно выпалил: – И с тобой это было?