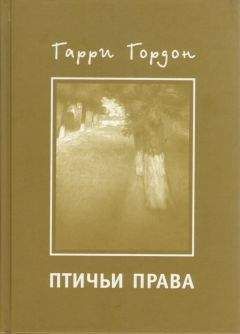в волшебном атласе! И все думы его были о дальних странствиях. Вот и теперь, в ночном, снова нахлынуло, сжало грудь неясным предчувствием.
Мизгирь рядом глубоко и как-то тревожно вздохнул, скороговоркой пробормотал:
– На курганах из солнца костры.
Там, в степях, где свобода всегда,
Долгожданная…
– М? – Ивашка встрепенулся, удивлённо поглядел на стрелка.
– Это старая, очень старая песня про места восточнее наших земель. Отец её пел мне, и дед. А дед узнал от своего прадеда… Когда-то было время – и у нас цвели бескрайние степи. Там тюльпаны были, и маки, а по осени – серебристый ковыль, точь-в-точь как море. Ветер гнал по нему волны. – В голосе стрелка сквозила затаенная боль. – Мы рожь сеяли, скот пасли. Дед сказывал, что мы, русы, потомки великого народа, которому подвластны были и земли, и недра, и даже выси небесные. Чуть ли не до самого солнца летать могли, реки поворачивали вспять. Мы ему, конечно, не особо-то верили. Мало ли что старый бает! Но всё же находили, бывало, древние механизмы – и дивились им: кто и для какой надобности такое выдумал. Русы то были или нет – а светлые, видно умы…
Он умолк, придвинулся ближе к костру. Сгорбился, пристально глядя в огонь – всполохи пламени ярко плясали, отражаясь в распахнутых серых глазах.
Ивашка нетерпеливо поёрзал:
– Отчего же ты раньше про то не сказывал? Интересно же!
– Да я и не помнил ничего толком. Будто муть какая в голове колыхалась. Это только сейчас проясняться начало, – Мизгирь снова вздохнул, подбросил в огонь сушняка. – Сказать тебе про чародея?
Ивашка с жаром кивнул, затаил дыхание. Мурысь тоже развернул чуткое ухо – навострил слушать.
– В наших краях есть дурное место. Дурное, как язва: смердит там всегда и трава не растет. Из кургана торчит труба, а в ней булькает чёрная кровь земли. Старики говорили, что в древние времена люди были жадные до нее, называли «чёрное золото». Из земляной крови ткали одежду, делали еду и питьё, лекарства, питали ей механизмы. Но она же их и сгубила: не поделили, началась война – и не осталось камня на камне.
– Та война, на которую мы попали? – прошептал Ивашка враз севшим голосом.
– Боюсь, что другая, много позже, – покачал головой Мизгирь. – Люди всегда воевали и будут воевать, такая уж их природа. Делить земли, золото, чёрную кровь – любые богатства. Что бы ни изобрели, ни открыли – это новый повод для стычек. Так думали мы и потому довольствовались малым. Оружие – лишь для охоты и защиты. Больше символ доблести, нежели настоящая сила. А потом пришёл он.
– Чародей?
– Да. Я даже не знаю, человек ли он. Может, чёрт… или еще какая нечисть. Да ты и сам знаешь. Дело ведь не в том, что он жестокий или злой. Он глумится. Потешается над святым, над чужой болью и слабостью – это самое страшное. Его смех. Он пришёл – и чёрная кровь потекла из земли сильней, разлилась по округе. Мы оставили селение и погнали скот прочь, через степи. А он шагал следом, будто мы – его стадо. Шел – и хохотал. И когда вдали показалось море, он ударил огнем из рук – чёрная кровь вспыхнула. Дым поднялся до самых небес. Впереди вода, позади – огонь. Мы думали, море спасёт нас, но оно тоже загорелось, поднялось стеной.
– Как же ты уцелел?! – Ивашка машинально закутался в зипун до самых бровей: ему стало жутко и холодно. Даже зубы запостукивали.
– Дед меня спас. Дал серебряный орех из кургана – я не хотел брать, так он осерчал и швырнул, попал прямо в лоб мне. Скорлупа раскололась, окутала волшебной одёжей с ног до головы. Ни жара, ни боли я в ней не чувствовал. Только как осознал, что родные мои заживо в огне том горят, а я даже помочь им не могу – так и лишился чувств. И сколько пролежал там – бог весть. Потом скитался по пустыне, едва не умер от голода. Кочевники меня подобрали. Ватан-сор, народ солончаков. А я, выходит, из рода Кречета остался самый последний. И потому поклялся отомстить чародею за мою землю и всех, кто погиб. Затолкать ему в глотку обратно поганый его смех – пусть, гад, подавится! – Мизгирь в сердцах саданул кулаком по колену.
Милка вскинула точёную голову, звонко заржала. И тут откуда-то из темноты ей внезапно ответил другой, чужой конь. Лязгнуло железо, и в унисон ему раздалась лающая иноземная речь. И от этих звуков Ивашку до самых ступней прошибло холодным потом, пронизало смертным ужасом. В горле комом встал крик.
– Немцы! Снова немцы! Мизгирь!
– Беги! – закричал Мизгирь в ответ, взметнувшись с земли.
Но было поздно.
Затрещали кусты. Из них на Ивашку надвинулась длинная, по уши закованная в броню лошадиная морда. Всхрапнула. И, видно почуяв близость кобылы, здоровенный жеребец вскинулся вдруг на дыбы, завизжал, надсадно и зло – ухнул, ударяя пудовыми копытами в дёрн.
С диким мявом Мурысь прыснул в сторону, распушил щеткой хвост.
В свете костра полыхнул зеркальным блеском доспех всадника, увенчанного рогатым шлемом, со свистом вспорол воздух выдернутый из ножен меч. Конь рванулся вперёд, сшибая Ивашку грудью, – тот упал ничком, с тихим вскриком, прикрывая руками голову. Это было последним, что увидел Мизгирь, лихорадочно рванувший из-за пазухи револьвер.
А для Ивашки ночь взорвалась яркой болью. А потом навалилась тьма.
* * *
«Степь в траве хоронит минуты, друг мой, что ты слышал под утро?
Что за злую весть сообщил кому-то звон умершей струны?
Я узнал ответ на рассвете: ветер дует в сторону смерти.
Нам дорогу к ней протоптали черти – дети полной Луны!»
(Канцлер Ги)
Мизгирь через силу приподнял голову и застонал еле слышно – затылок ломило. Со лба соскользнула мокрая тряпица. Ее тут же заботливо кто-то поправил, вернул на место. Звякнул металл.
– Ивашка, ты? – он вгляделся в маячившее над ним в полумраке белёсое пятно – чье-то лицо.
– Неа, не Ивашка я. Федька. – Отозвался ломкий мальчишечий голос. – А окромя меня ещё Захарка тут, Аринка и Кир. Мы русичи, из-под Новгорода. Ярик вроде тоже русич, но он блажной. Мы его речи не особливо разумеем. Эйвар еще с нами, и Лууле, и Зельда, они вовсе уж бестолковые. Только ревут, почём зря,