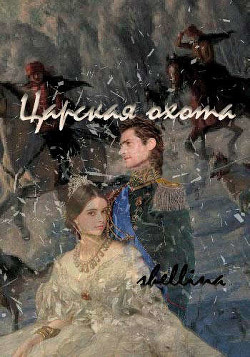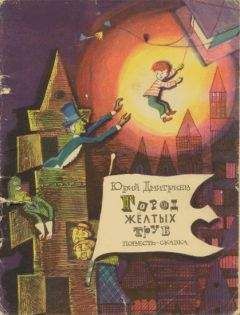Когда все предложения были озвучены и розданы в виде предварительных договоров, я отпустил их, дав им время на раздумье в течение недели. За эту неделю они должны были или принять предложение и начать с князем Волконским разрабатывать план его осуществления, или же отказываются, но тогда сами понимают, что никаких льгот они больше никогда не получат. Только у Строгонова выбора не было, и он это прекрасно понял по моей ухмылке. А ведь у него земли было, как бы не больше чем государственной. Причем в разных местах до Урала, и в Южном Урале что-то отец его умудрился захапать. Вот кто у меня картошку массово сажать начнет. А то взяли моду, отцовское состояние не увеличивают, а едва на том же уровне держат.
— Никита Федорович, оставь свой доклад на столе и можешь идти, работы у тебя невпроворот, знаю это, да еще конюшни на тебе. А ведь я еще задачу тебе подкину, нам лошади нужны, не ездовые красавцы, а крестьянские тягловые, выносливые и сильные, с мощным костяком, чтобы плуг спокойно могли таскать.
— Битюги, — внезапно поднял палец вверх Волконский. — Совсем недавно мне отписался Измайлов, что крестьяне у него чудо-лошадь вывели. Знает мое увлечение, вот и прислал письмецо. Дозволь отпишу ему, чтобы прислал на погляд пару. Ежели что, я сам породу слегка улучшу. Ну а затем вон дончаков обяжем стада разводить. Они один черт ничего кроме охраны от крымчаков и то спустя рукава не делают. Зато лошадей привечают, это да. Вот пущай и займутся. Пастбища там богатые, калмыки же все ушли, вырастят стада, не переломятся.
— Насчет дончаков подумаю, Никита Федорович, а вот лошадок пущай присылает Измайлов, — я встал и подошел к окну, сцепив руки за спиной. Ясный, морозный день за окном, вот бы выехать куда на Цезаре, пронестись по полю, поднимая за собой снег, и чтобы рядом черноокая красавица скакала. А потом в избушку специальную в лесу, по типу той Долгоруковской, чтобы и стол с яствами стоял и печь была жарко натоплена, и кровать расстелена, ожидая любовников. Мотнул головой, прогоняя притягательный образ и повернулся к Волконскому, который доставал из своей папки, исписанные мелким почерком листы. Оставив их на столе, князь поклонился и вышел, зато заглянул Митька.
— Ушаков в последний раз спрашивает, дозволишь физические воздействия к Толстому применить, али нет?
— Нет, пока нет. Доставьте его сюда, хочет поговорить с государем, уважим его. Только, ежели ничего толкового не скажет, то прямиком отсюда на дыбу поедет.
— Зачем сюда? — Митька нахмурился.
— А что ты мне предлагаешь к этому типу самому ехать? В кандалы закуете, делов-то. Только не говори, что у Андрея Ивановича кандалы внезапно закончились.
— Как скажешь, государь, Петр Алексеевич, — Митька с недовольной мордой исчез. Я же покачал головой. Нет, я не страдаю излишней мягкотелостью, тем более из-за этого типа мне все еще Михайлова не вернули, но вот позволить ему высказаться, я дать могу. Именно поэтому я запретил Ушакову пытки, пока не смогу более-менее объясняться. Подойдя к окну снова посмотрел на улицу. Никакой личной жизни, чтоб вас всех. А больное горло дало отворот к попыткам повторить тот номер с окном.
— Государь, Петр Алексеевич, здесь к тебе Екатерина Андреевна Ушакова просится, — заглянул в кабине Митька. Самому что ли селектор «изобрести»? Нет, пока с электричеством не разобрался мой цвет ученой мысли современности, никаких изобретений на грани. Я и так много им подсказал, не напрямую естественно, так идеи подкидываю время от времени.
— Ну пусти, раз просится, — я улыбнулся. Екатерина, любимая дочь Андрея Ивановича, невысокая, но уже вполне оформившаяся во всех нужных местах барышня, вызывала у всех исключительно положительные эмоции своей непосредственностью. Вот и сейчас впорхнув в кабинет, она присела в реверансе, сверкнув обнаженными плечами, и улыбнулась.
— Государь, Петр Алексеевич, государыня определилась с датой. Хоть ты и загнал нас всех в угол, потому что за такой короткий срок очень сложно что-то приготовить, но государыня сказала, что это очень важно, поэтому назвала датой двадцатое марта.
— Ну слава Богу, определились, — я выдохнул с облегчением. — Передай государыне, что я доволен как кот, упавший в крынку со сметаной.
Екатерина хихикнула, снова присела в реверансе и поспешила к двери, которая в этот момент распахнулась, и она, внезапно переменившись в лице попятилась, наткнувшись спиной на нахмурившегося Митьку, прижалась к нему так крепко, что тот был вынужден слегка приобнять ее за плечи и отвести в сторону. Когда они освободили мне обзор, я увидел, что трое гвардейцев сопровождают идущего мелкими шажочками, закованного в кандалы молодого человека. Видимо его умыли и побрили, потому что щеки и подбородок были значительно светлее, чем та часть лица, которая не была прикрыта бородой и от этого загорела. Губы парня были плотно сжаты, и он шел, глядя себе под ноги, не поднимая глаз. Гвардейцы дождались моего кивка, втащили его в кабинет, кинули на стул и встали с трех сторон. Я же взял от стола другой стул и поставил его напротив заключенного. Ну что же поговорим.
Глава 10
Бах! Ба-бах!
Михайло Ломоносов поднял голову от нарисованной таблице, которую придумал сам, и в которую вносил характеристики нефрита. Они с Бернулли начали разбирать коллекцию, к которой привязался так внезапно нагрянувший государь Петр Алексеевич. Ломоносов тогда еще поразился, что какой-то юнец, одетый чуть ли не в доху, смеет приказывать таким крупным ученым, в окружение которых он сначала даже растерялся. Сейчас правда освоился, и уже даже начинал пока еще не слишком яростно, но спорить с тем же Бернулли, который принялся заниматься с ним первым. После долгих споров, Бернулли принял предложенную его учеником систему описания минералов, а также решил, что действительно можно отколоть от камней по небольшому образцу, чтобы изучить физические и химические свойства.
Бах!
— Да что там опять взорвалось? — пробормотал Ломоносов и, выбравшись из-за стола, направился в сторону звука. Возле дверей одной из лабораторий столпилась приличная толпа ученых, среди которых находился и учитель Ломоносова. — Что здесь такое случилось? — говорить приходилось на ломанном немецком, который он знал лучше, чем молодой Бернулли русский.
— Эйлер с ума сходит, — снисходительно ответил Бернулли. — Пытается всевозможными способами выделить газ, который будет легче пара и не будет взрываться. Правда, ему удалось какой-то получить, но никакая ткань не выдерживает его и в итоге происходит возгорания и взрыв. Бывает, правда и наоборот. И вот он теперь пытается изобрести что-нибудь принципиально новое.
— И что он сейчас делает? — Ломоносов был выше почти всех, столпившихся у дверей и частично в лаборатории ученых мужей, поэтому мог смотреть поверх их голов. После того как государь, Петр Алексеевич приказал избавиться от париков в целях безопасности, ведь большинство ученых были естествоиспытателями, смотреть поверх их голов становилось гораздо проще.
— О, он задался целью, воспользовавшись трудами Гилберта, Грея и этого сумасшедшего Франклина, получить газ в самом воздухе при помощи электричества, — Бернулли скептически хмыкнул. — Я ему того же Грея привел в пример и даже расчеты предоставил, явно указывающие, что ничего хорошего у него не выйдет, но он уперся как баран и заявил, что все дело в материалах. Теперь, насколько я понимаю, в ход пошли медная проволока, уголь и… что-то еще, не могу рассмотреть.
— Дьявол и все его дети, я заставлю тебя работать! — заорал в это время Эйлер и принялся крутить какое-то колесо, предназначения которого Ломоносов пока не понимал. Комната была частично в дыму из-за предыдущего неудачного опыта, и то, что было расположено на столе просматривалось плохо, но Ломоносов уже не в первый раз, наблюдая за опытами, параллельно изучая исписанные формулами доски, ощутил прилив благодарности к судьбе, которая наградила его высоким ростом, ведь только из-за того, что он возвышался над другими учащимися академии, с которыми прибыл сюда, он и привлек внимание государя, который славился импульсивными и нестандартными поступками, которые почему-то приводили этих ученых в восторг, ведь благодаря этим вспышкам плохого настроения, они уже столько нового узнали и открыли… Бильфенгер, например, вовсю развивает свой движитель и клянется, что скоро этот движитель потащит за собой колеса, приделанные к телеге и сможет в каких-то моментах заменить лошадей. И он Михайло Ломоносов ему верил. А еще был счастлив приобщиться и в какой-то мере поспособствовать рождению этих открытий.