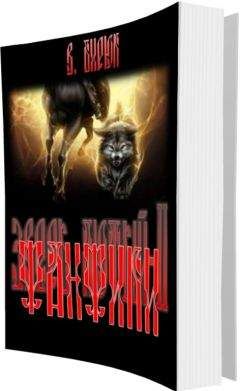— Да ладно, дядя, чего разорался? Нет — так нет. Было бы предложено. Не хочешь — будем по твоей цене. Николай, отдай дяде 30 гривен да бей по рукам.
Фиг там. Дед решил выспаться на нас по полной.
Полчаса он рассказывал — какой я плохой. Какие мы все плохие. И как у нас всё плохо. «Плохо» — было, есть и будет. И у родителей моих тоже… очень нехорошо было. И дети мои, если случиться такое несчастье, будут… нехорошими.
Потом соблаговолил. Продать обсуждаемого холопа за 60 гривен.
Николаю даже дурно стало — начал за сердце хвататься. Отдать столько серебра за вот это… чудо недокормленное? Оно, что, золотое? Да мы за такие деньги четверых-пятерых-десятерых таких же…
Поздно — седобородый иконописный работорговец завёлся. Он внушал, стыдил и проповедовал. Его отсылы к Святому Писанию, сравнения меня с различными представителями живой природы и характеристики моих личных качеств наполнялись яркими образами и излагались хорошо поставленным голосом.
Мои уши горели, местные зеваки ахали и хихикали. Здорово дед пришлых развёл. Так им и надо, боярам сиволапым.
Как говаривал царь Соломон: «И это пройдёт». Царь иудеев снова оказался прав: «это» — прошло.
Нам пришлось вытрясти все кисы. Не только ногаты и куны, но и кое-что из безделушек. Ивашко даже перстенёк с пальца снял.
Дед ещё повыкаблучивался, повыпендривался и повыёживался. Наконец, ударил с Николаем по рукам. Бросил пренебрежительно:
— Отвязывайте. Верёвку… так и быть — дарю.
И величественно удалился в сторону своей резиденции.
Мне было стыдно. Мне было очень стыдно от услышанного.
Можно сколько угодно повторять, что это квакала тупая туземная лягушка, которая сдохнет за восемь веков до моего рождения, что он представления не имеет ни о дискурсе, ни о гламуре. Вообще — примитивная, ограниченная, средневековая…
Мне было стыдно. От того, что мне пришлось вытерпеть всё это перед лицом моих людей. Перед местными зеваками. Теперь на торг просто не являйся. И ругать нужно только самого себя: не предусмотрел, не подготовился, полез в бутылку.
Нефиг было Николаю мешать. Он-то правильно бы торг провёл — по кусочкам:
— Ноги стёртые? — Гривну долой. Спина порота? — Ещё три. Побеги были? Минус пять за каждый.
И вывел бы цену на что-нибудь приемлемое. А я вздумал «методом половинного деления»:
— не по твоему, не по моему — пополам.
Вот и выскочил за «границы допустимого». Ну откуда попаданцу знать — какие у русских работорговцев «границы допустимого» в ценообразовании?!
Древние греки в надгробных эпитафиях по аналогичным случаям выражались интеллигентно: «Не преуспел».
Весь мой трудом и кровью наработанный авторитет… все убиенные мною или по моему приказу мужчины и женщины… на хрена было…?
Терентий испуганно посматривал на меня, пока я угрюмо разматывал верёвку на его ошейнике. Вокруг ещё стояли зеваки, стражники, мои люди.
Понурые, уныло, как оплёванные, мы собрались уходить домой.
Вдруг из пристройки, куда удалился иконный дед с приказчиком и деньгами, раздался крик.
Из дверей появился размахивающий руками и вопящий приказчик. Вопил он неразборчиво, но… «набатно». Потом вдруг кинулся к стенке и начал блевать.
Все вокруг напряглись. Николай, было, намылился сбегать-посмотреть.
— Всем — стоять!
Негромкая команда дошла до моих людей. Десятник стражников непонимающе поглядел на нас и, оставив пару своих людей, во главе остальных потрусил к источнику крика. За ним ломанули и зеваки.
Мы рассматривали, как Терентий заматывает тряпками разбитые ноги, когда из пристройки резво выскочил десятник. Будто его в задницу чего клюнуло. И явно удивился, увидев нас на прежнем месте. К нам он подошёл уже не спеша.
— Ну, отроче, сказывай: твоя работа?
— О чём ты, добрый человек?
— Тама купец мёртвый лежит. Ты душегубство сотворил? Сознавайся!
Не фига себе! Как это, как это? Не понял я.
— Ты, десятник, весь наш разговор — рядом простоял. Всё видел, всё слышал. Как купец ушёл — я здесь остался, люди мои тоже. Снова: ты всё видел. Ну и как я мог этого купца… Как?! Чем?! Кстати, а от чего покойный… ну, дуба дал?
Десятник и сам пребывал в сильном смущении. Сильная взаимная вражда… недостаточная основа для обвинения.
Вот если бы меня увидели ночью возле того места, где случилось преступление, тогда, по «Русской Правде», есть причина для подозрения. И тестирования подозреваемого раскалённым железом.
— Приказчик говорит: вошли в горницу. Купец за стол сел, велел квасу принесть. Кошель вытащил, стал серебро перебирать, на зуб пробовать. Приказчик сбегал за кваском, вернулся… Купец на земле лежит. Приказчик к нему, а тот уже… весь розовенький и слюни изо рта. Вот, стало быть…
— Да уж… Вот только что — нас жизни учил, а сам уже… На всё воля божья.
Я стянул шапку с головы, найдя взглядом купола церкви, широко, троекратно перекрестился.
Крайне недоверчивый взгляд десятника требовал объяснения. Я ответил честно, смущённо-испуганно-растерянно:
— Тут, господин десятник… Такое дело… Вот ты говоришь: «сознавайся». А в чём? Я ж там не был. Ты ж сам видел. И ведь я ж его предупреждал! Ну, насчёт цены… А он… Ты ж сам тут был! Он же ж и слушать не хотел… Ай-яй-яй… Поди, и вдовица с сиротами остались?
Десятник напрягся, его люди вокруг взялись за оружие. А я продолжал:
— Я-то не душегубствовал, не убивал его. Да и не мог никак — ты же сам всё видел. Но вот же ж… Тут дело такое… Заборонено мне покупать хоть какого человека, холопа ли, робу ли, христианина ли, поганого… дороже 2 ногат за голову.
Народ вокруг… удивился. Десятник подозрительно меня рассматривал. Но я же не убегаю, не отнекиваюсь — бить-хватать… вроде нет причины.
— И кто ж на тебя такую… епитимью наложил?
Несколько издевательский тон вопроса не мог скрыть его растерянность.
«Епитимья», как известно — церковное наказание. Это «правильное» слово в «правильном поле ассоциаций».
— Кто-кто… Об высших силах слышал? А про «Покров Богородицы»? А чего спрашиваешь тогда?
Я старательно поправил свою косыночку и накрылся шапочкой.
Начнут приставать — отопрусь. «Ваньку поваляю», придурок я. Верую в Пресвятую Богородицу! А что, нельзя?
Мне лжа заборонена, ни слова неправды!
Кто мне, Ивашке-попадашке, есть «высшая сила» более высокая, чем я сам? — А никто! Две ногаты я себе сам и установил. Просто потому, что в самом начале меня лекарка Юлька боярыне Степаниде Слудовне в Киеве за такие деньги продала. Меня! Ну и кто тут, во всём этом мире, может быть дороже?