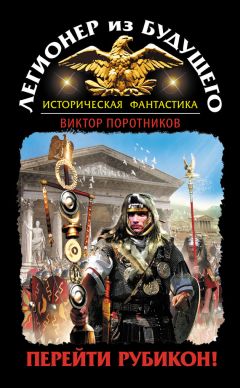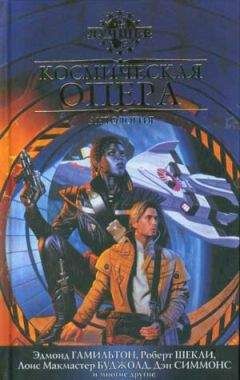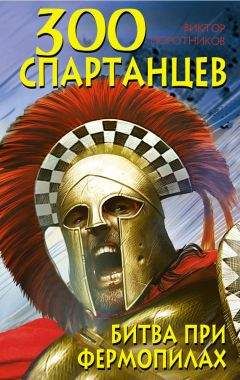Цезарь любил свою дочь Юлию, которая была точной копией своей матери. Цезарь пребывал в Галлии, когда скончалась Юлия, поэтому он не смог присутствовать на ее погребении. Цезарь выпросил у Помпея медальон из оникса с изображением Юлии и также не расставался с ним.
Живя бок о бок с Цинной, я осознал, какое исключительное место занимает религия в жизни древнего римлянина. Каждый момент его обыденной жизни был подчинен какому-нибудь обряду. Несмотря на то что Цинна жил в доме Цезаря, то есть являлся гостем, он тем не менее утром и вечером молился у очага пенатам этого дома. Цинна и меня заставлял участвовать в этих обрядах. Выходя из дома и возвращаясь в дом, Цинна также произносил краткие молитвы на пороге. Перед каждой трапезой Цинна вместе с Цезарем молился богам-покровителям, принося им в жертву малую толику угощения со стола. Это могло быть и обычное возлияние, когда из первой застольной чаши на пол проливалось чуть-чуть вина.
Вне дома Цинна почти не мог сделать и шага, чтобы не наткнуться на какой-нибудь священный предмет, который, по его мнению, носит на себе отпечаток недавнего присутствия кого-то из богов. Порой Цинна мог посреди разговора вдруг отвлечься от всего земного и шепотом прочесть молитву, иногда – внезапно отвернуться и закрыть лицо краем тоги, чтобы не увидеть какой-нибудь зловещий знак. Эти недобрые знаки мерещились Цинне повсюду. Он носил на себе амулеты от сглаза, от многих болезней, от порчи, которую, по его словам, злые люди могут послать по ветру. Он знал различные заговоры, предотвращающие любой недуг, – и верил, что они излечивают хворь, нужно только произнести их двадцать семь раз и при этом плюнуть на особый манер.
Никогда Цинна не выйдет из дома, не оглядевшись вокруг, не убедившись, что рядом нет какой-нибудь птицы, появление которой может служить дурным предзнаменованием. Никогда Цинна не переступит порог правой ногой и не станет стричь волосы до начала полнолуния. Есть слова, которые он ни за что не произнесет, ибо тем самым может навлечь на себя беду. Если у Цинны появится какое-нибудь сокровенное желание, то прежде, чем поделиться им с кем-нибудь, он напишет его на табличке, которую положит в храме у ног статуи божества. Цинна откажется от хорошо обдуманного намерения, от прекрасно рассчитанного плана, если только его слуха коснется какое-нибудь зловещее слово или он увидит некий недобрый знак.
Это меня поражало в Цинне, который был не какой-то темный простолюдин со скудным умом, которому нищета и невежество мешают избавиться от предрассудков. Цинна являлся патрицием, образованным и начитанным, с достаточно широким для своего времени кругозором. Цинна порой смеялся над наивной недалекостью здешних селян, которые поддаются на обман жрецов, выдумывающих разные небылицы при жертвоприношениях с целью вынудить простаков раскошелиться на более щедрое подношение богу, а сам чуть ли не каждый день обращался к гадателям за разъяснением по поводу своего сна или увиденного недоброго знамения.
Но еще сильнее меня поражало то, что и Цезарь был подвержен таким же суевериям и мнительности, какие довлели над Цинной и прочими знатными римлянами из его окружения. Цезарь был умен и прекрасно образован, но и он при всей своей мудрости и прозорливости постоянно шел на поводу у страхов и опасений, порождаемых в нем верой в обидчивых и злопамятных богов.
Я решил при первой же возможности использовать благоговейный трепет Цезаря перед всевозможными божественными знамениями себе на пользу. Вернее, на пользу делу, ради которого я и стал агентом-хранителем.
В Равенне Цезарь пробыл недолго. Дней через десять он вместе со своей большой свитой перебрался из Равенны в городок Альтин поближе к Эмилиевой дороге, которая связывала Цизальпинскую Галлию с Умбрией и Пиценом. По этой дороге двигался с севера на юг десятый легион во главе с легатом Квинтом Цицероном. Друзья убедили Цезаря в том, что целесообразнее разместить десятый легион где-нибудь поблизости от реки Рубикон, которая является границей его провинции. С наступлением весны Луций Домиций Агенобарб наверняка постарается напасть на войско Цезаря еще до того, как главные силы последнего перейдут через Альпы в Цизальпинскую Галлию. Поэтому, полагали друзья Цезаря, войско Агенобарба лучше встретить у реки Рубикон, чтобы задержать его на переправе.
Два дня тому назад десятый легион вступил в город Бононию, от которого было два перехода до Альтина и три перехода до реки Рубикон.
В Альтине произошел случай, лишний раз убедивший меня в том, что Цезарь помимо своих прочих достоинств обладает также на редкость цепкой памятью.
Всем в окружении Цезаря было известно, что Цинна сочиняет неплохие стихи. На застольях Цезарь частенько просил Цинну прочесть что-нибудь новенькое перед его гостями. Цинна охотно читал свои вирши, если был в благодушном настроении. Цинна понимал, что, несмотря на все похвалы в его адрес, ему далеко до таких признанных поэтических гениев, как Катулл и Тицид. Даже оратор Цицерон сочинял порой очень неплохие стихи и эпиграммы. Цинна в стихосложении не мог потягаться с Цицероном, которого он недолюбливал. Это обстоятельство расстраивало Цинну, хотя он и старался не показывать вида.
Мне тоже захотелось блеснуть перед друзьями Цезаря и перед Цинной стихосложением и декламацией. К этому меня обязывала дружба с Цинной. Не имея никаких способностей к сочинению стихов, я решил просто-напросто украсть что-нибудь из мировой классики и выдать за свое творение. Поэзия грядущих веков была неизвестна Цезарю и его друзьям, в их мире никто даже не имел представления о том, что такое рифма. Ведь в эпоху античности в основе поэзии лежала ритмика ударений, чередование коротких и длинных строф с упором на смысловую отточенность, а не на рифмованные окончания слогов.
Я остановился на Шекспире, выбрав монолог Гамлета «Быть или не быть…».
Выбрав время, когда рядом не было Цинны, я сел у окна с восковой табличкой в руках и стал выводить на ней острым стилем гениальные строки Шекспира, переводя их на латынь. Дело это оказалось весьма непростым. Латинские слова вполне точно передавали смысл монолога Гамлета, но с трудом подгонялись под рифму. Ритмикой гекзаметра или пентаметра тут и не пахло! Я делил стихи Шекспира на стопы и размеры, как мог, взяв за основу элегический дистих, который был в моде у нынешних римских поэтов.
Я только-только закончил свой перевод Шекспира на латынь, как вдруг передо мной возник Цезарь. Он пришел, чтобы вернуть Цинне свитки с философскими трактатами, но не застал его дома. В Альтине Цезарь жил в доме через дорогу от нашего с Цинной жилища.
Узнав от меня, что Цинна ушел на рыночную площадь, Цезарь положил свитки на стол и поинтересовался, чем это я занят.
«Судя по твоему лицу, Авл, ты явно сочиняешь стихи, – улыбнулся Цезарь. – Прав ли я?»
Я не стал отнекиваться и предложил Цезарю оценить мой стихотворный стиль, пока Цинна не вернулся с рынка. Если написано плохо, сказал я, лучше это сразу предать забвению. Если хорошо написано, тогда я решусь показать эти стихи Цинне.
Цезарь сел на стул напротив меня. Он не скрывал своего любопытства.
Я с внутренним трепетом, но довольно уверенно прочитал вслух монолог Гамлета от начала до конца. По-латыни этот отрывок из пьесы Шекспира звучал, на мой взгляд, не столь захватывающе, как на русском языке, хотя бы потому, что латинские падежные окончания крайне бедны по сравнению с русскими. И все же по глазам Цезаря я понял, что это творение Шекспира произвело на него сильное впечатление.
«Обязательно прочти это Цинне, Авл, – сказал Цезарь перед тем, как удалиться. – Твои стихи глубоки и прекрасны! У тебя, Авл, какой-то совершенно особенный стиль. Ничего подобного я не встречал ни у римских, ни у греческих поэтов!»
Я невольно покраснел после похвалы Цезаря, но не от удовольствия и гордости, а от стыда перед Шекспиром, талант которого я выдал за свой. Вернувшийся с рынка Цинна, прочитав монолог Гамлета, долго молчал, потрясенный формой и содержанием этого стихотворения.
«Авл, твой поэтический дар выше моего, это бесспорно! – сказал Цинна, нарушив долгую паузу. – В твоих стихах каждая фраза, каждое слово как отточенный кинжал. Каждая строка разит наповал! И как созвучно выстроены стопы! А ты плел мне, будто никогда не сочинял стихов. Обманщик!»
С этого дня Цинна стал относиться ко мне как к равному, без прежнего эдакого налета снисходительного покровительства. Цинна, бесспорно, уважал меня за то, что я мастерски владею оружием, но иерархия в нашей с ним дружбе до этого случая все-таки носила оттенок патрона и клиента. Теперь, зная, что я не только хороший воин, но и способный поэт, Цинна уже не мог взирать на меня сверху вниз.
На другой день вечером у Цезаря собрались, как обычно, его близкие друзья, чтобы за чашей вина обсудить последние известия из Рима. Цинна и я тоже были приглашены на это застолье. Цинна отправился в гости к Цезарю чуть раньше меня, так как мне, как телохранителю Цезаря, нужно было еще сдать дневное дежурство своему сменщику. Недремлющие караульные днем и ночью дежурили возле ограды, которая окружала временное жилище Цезаря в Альтине.