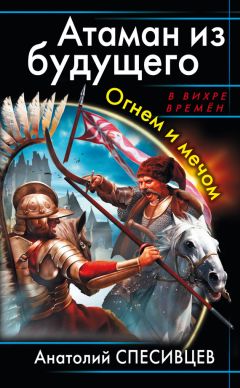Вслед за гетманом пришлось спешиться и остальным атаманам и полковникам. Вот здесь попаданец и почувствовал, что его трясет. Несильно, но вполне ощутимо.
«Однако переволновался, отходняк пошел. Господи, только другим бы видно не было, черт-те что люди подумать могут!»
Аркадий, стараясь делать это незаметно, поводил головой из стороны в сторону. Никто вроде бы на него не смотрел.
«Чертов поп! Как меня из-за него повело. Но никто, кажись, мой мандраж не заметил».
Окружающим было не до Москаля-чародея. Встречающие пытались немедленно наябедничать Хмельницкому друг на друга и на обижавшего всех митрополита, а также затащить его к приготовленным уже столам. В два разных места одновременно. Аркадию оставалось радоваться, что решение о том, куда ехать, надо принимать не ему. Обижать-то никого из встречающих не хотелось, хорошие отношения с ними были очень важны для гетмана в дальнейшем.
Соломоновым решением оказалось разделение всех трех делегаций. Верхушка не только магистратская, но и Братская вместе с гетманом и несколькими полковниками должна была проследовать в магистрат, а остальные встречающие и прибывшие – к столам, приготовленным Братством. Компромисс, как всегда, полностью не устраивал никого, но всем пришлось смириться, тем более доводить противостояние до откровенной вражды пока ни у кого не было интереса.
В гуле голосов Аркадий не раз и не два уловил упоминание митрополита, причем все отзывы были далеки от восторженных или хотя бы уважительных. Могила прессовал Братство по полной программе, пытаясь его уничтожить совсем. В магистрате также без восторга воспринимали его попытки перехватить управление Киевом в свои руки. И те и другие говорили о странном совпадении – нередко на киевлян одновременно с православным митрополитом наезжали иезуиты или униаты. Богдан все жалобы выслушивал, однако выступать против главы церковной власти на бывших польских землях не спешил.
При разделении на две половины попаданец замешкался, не зная, куда идти ему. Вместе с Хмельницким или к братчикам, но сомнения разрешил сам гетман, позвавший его за собой. До магистратуры и здания Братства было не так уж далеко, поэтому казацких коней подхватили ехавшие сзади джуры, а старшина пошла со встречающими пешком. Аркадий этому обрадовался, трясло его весьма капитально, он, несмотря на летнюю жару, вдруг покрылся «гусиной кожей», ощутил желание накинуть на себя что-то теплое, было бы нехорошо свалиться при попытке залезть на коня. Чем дальше, тем меньше он прислушивался к окружающим разговорам, занятый навалившейся на него слабостью.
«Сейчас бы полежать под теплым одеялом минут сто двадцать, если не сто восемьдесят, нервишки бы и успокоились. Опять был бы готов к употреблению в государственных надобностях. А теперь могу поддерживать своих только фактом своего присутствия. И боец из меня в таком состоянии сомнительного качества, и переговорщик никакой. Господи, дотянуть бы до конца этой тягомотины и не опозориться!»
Ирония судьбы. Именно его бледность и отстраненность в этот момент привлекли внимание пары больших карих глаз. Их обладательница приняла попаданцев отходняк за признаки благородства и вдохновенности, что предопределило его судьбу в будущем. О женщины!..
Праздничный обед, плавно перетекший в ужин (умели наши предки есть), Аркадий с превеликим трудом, но выдержал. Поначалу ел и отвечал на вопросы соседей на автомате, его бросало то в жар, то в холод, выходка на дороге, когда он взял на себя смелость определять отношения с митрополитом всего запорожского войска, ему дорого обошлась. Хотя и, судя по реакции гетмана, была одобрена. Не было сейчас термометра, но температура у него подскочила за тридцать восемь градусов, было у попаданцева организма такое свойство, бросание в жар при сильном волнении. Как ни странно, стресс после боя с черкесами в Темрюке, когда стоял вопрос о его жизни, был чуть ли не на порядок легче.
К концу ужина Москаль-чародей немного отошел и смог проявить себя как интересный собеседник. Впрочем, потом он узнал, что, заметив его отстраненность, соседи за столом, прекрасно знавшие его (знаменитый колдун-характерник, советник Хмельницкого и Татаринова, говорят, черта оседлал…), к нему не приставали. Молчит колдун – ну и славненько, а то раскроет рот да проклянет кого… кому это надо? Сидит, молча ест и пьет, дурных взглядов ни на кого не кидает, чего еще от него надо? Вареников? Так они на столе есть.
По завершении ужина подошел к Хмелю и отпросился поспать. Тот внимательно на него взглянул и, не говоря ни слова, кивнул. В эту ночь попаданец дрых, как сурок, без задних ног. Так что утром его ждали сенсационные новости. Во-первых, оказывается, пока атаманы набивали брюхо в магистрате, митрополит предал анафеме все войско запорожское. За бунт против Господом дарованного короля, ибо любая власть от Бога; за убиение православных монахов, к ним для умиротворения посланных (имелись в виду те самые монахи, которые были изгнаны казаками из своего лагеря перед сражением и погибли вскоре от рук панов-католиков, их убийц потом нашли среди пленных поляков и торжественно предали повешению в Киеве); за сношение с колдунами, продавшими душу нечистому. Во-вторых, о самоубийстве в собственной келье митрополита Петра Могилы. Не перенес он разоблачения своего хлопского происхождения, повесился на крюке, торчавшем из стены. Утром монашек к нему зашел, готовить владыку к заутрене, а он уже остыл, висит у стены, высунув язык.
Второму сообщению Аркадий от души порадовался. Очень уж опасным врагом был Могила, и такой добровольно-позорный его уход послужит казакам на руку. Оставалось возблагодарить небеса за то, что криминалистика как наука еще не существует и никаких Шерлоков Холмсов поблизости нет.
«Любое мало-мальски серьезное расследование может выявить нестыковки в «самоубийстве» чертова попа. Впрочем, Хмель и Свитка свое дело туго знают, наверняка все опасности разглашения нежелательной информации уже ликвидированы. Можно сказать, легко отделались».
Аркадий потом поинтересовался у Свитки, как прошла операция по устранению врага. Выяснилось, что охранять-то митрополита охраняли, да не от пластунов. Те легко пробрались на территорию монастыря и залезли в окошко, не прикрытое ни ставнями, ни решеткой. Могила, сильно переволновавшийся в этот день, принял для успокоения внутрь не одну чарку любимого вина и вторжения не заметил. Его придушили подушкой и повесили на крюке в стене, предварительно облив вином. Стоявший за дверью здоровяк-монах ничего не услышал, поэтому и в самом монастыре подумали прежде всего о самоубийстве владыки. Хотя слухи об убийстве не поползти не могли.