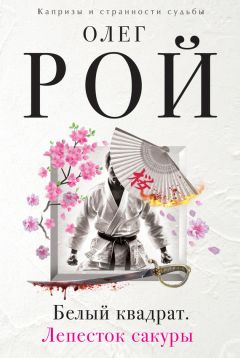ладно, тогда я вам чаек принесу. Собственной заварки с душицей. Если что — кнопочку нажмите вот тут.
Радио, тихонько игравшее гимн СССР, сообщило о концерте по заявкам. Запела Клавдия Шульженко:
Клёны выкрасили город
Колдовским каким-то цветом,
Это снова, это снова
Бабье лето, бабье лето!
Что так быстро тают листья,
Ничего мне не понятно…
Я ловлю, как эти листья,
Наши даты, наши даты…
Я откинулся на спинку мягкого кресла. Мне было невероятно хорошо. И от того, что еду с удобствами. И от того, что на время скрылся от возможных хищников КГБ. И от того, что еду на Родину. Сибирь, как я люблю её!
И сразу вспомнились еще не написанные стихи Жени Евтушенко, с которым был лично знаком.
Родной сибирский говорок,
Как теплый легонький парок
У губ, когда мороз под сорок.
Как омуль, вымерший почти,
Нет-нет, он вдруг блеснет в пути
Забытым всплеском в разговорах.
Его я знаю наизусть.
Горчит он, как соленый груздь.
Как голубика — с кислецой
И нежной дымчатой пыльцой.
Он как пропавшая с лотка
Черемуховая мука,
Где, словно карий глаз кругла,
Глядишь, — и косточка цела.
Когда истаивает свет,
То на завалинке чалдоночка
С милком тверда, как плоскодоночка:
«Однако, спать пора — темнеет…»
А парень дышит горячо.
«Да чо ты, паря!» — «Я ничо…» —
«Ты чо — немножечко тово?
Каво ты делашь?» — «Никаво».
«Ты чо мне, паря, платье мяшь?» —
«А чо — сама не понимашь?»
Стихи прекрасно ложились на постукивание вагонных колес по рельсам, поэтому я начал читать его уже вслух:
И на сибирском говорке
Сердечко екает в руке
Сквозь теплый ситец, где цветы
Горят глазами темноты.
И вновь с чалдоночкой-луной
В обнимку шепчется Вилюй,
И лиственничною смолой
Тягуче пахнет поцелуй,
И вздох счастливо виноват:
«Задаст мне мать… Уже светат».
Родной сибирский говорок,
Меня ты, паря, уберег…
Отъехавшая после стука дверь купе прервала меня.
— Чаек, пожалте, — в руках проводника был поднос, на котором стояли серебристый подстаканник с ароматным (на все купе) чаем, вазочка с печеньем и горка синих упаковок «железнодорожного» сахара (на два кусочка каждая). — Ресторан откроется через полчаса, но я могу вам блюда прямо в купе доставить.
Я на миг задумался, потом отрицательно мотнул головой:
— Спасибо, сегодня сам схожу, а потом — да.
Отхлебнул чаёк. Да, не соврал проводник — чай шикарный. И не только за счет душицы, но и в целом, по сравнению с теми пакетиками, которые будут продаваться в будущем…
Евтушенко, сколько споров о нём было. Я Евгения знал хорошо, вместе охотились на медведя в его родном поселке Зима, в «Молодежку» иркутскую он часто заходил, бухали, его поэму там впервые опубликовали… Или опубликуют. Я тогда еще не свернул на темную дорожку, стихи писал.
И сейчас еду к себе — вот такому, чистому и наивному. А поэма был про тореадора. Помните:
Я публика,
публика,
публика,
Смотрю и чего-то жую.
Я разве какое-то пугало?
Я крови, ей-богу, не пью.
Самой убивать —
это слякотно,
И вот, оставаясь чиста,
Глазами вбивала по шляпочки
Гвоздочки в ладони Христа.
Я руки убийством не пачкала,
Лишь издали —
не упрекнуть! —
Вгоняла опущенным пальчиком
Мечи гладиаторам в грудь.
Нормальный был Женя (тьфу, есть а не был), талантливый человек, живущий той правдой, которую искренне считал истинной правдой. Поэтому и:
Есенин, милый, друг друга мы браним
Парнас российский дрязгами засерен,
Но все ж мы чем-то связаны одним —
Любой из нас хоть чуточку Есенин…
Да, именно поэтому он способен был сказать:
…не учил меня быть коммунистом —
Он учил меня Блоку и женщинам,
картам, бильярду, бегам.
Он учил не трясти
пустозвонным стихом, как монистом,
Но ценил, как Глазков,
звон стаканов по сталинским кабакам…
Истинный талант сочетает «Хотят ли русские войны?» и «Идут белые снеги», мало задумываясь о том, что мелкие существа будут судить-рядить о нем в соцсетях и на кухне за стаканчиком водки. Он сам выбирает, где и как ему жить, но проживая в США он остается в сотни раз большим русским, чем тетя Мотя из Хайфы, и в сто крат большим патриотом, чем лживый Солженицин или двуличный Жириновский. Его работы бессмертны, в отличие от творчества будущих (после разрушения СССР) мотыльков: манерного завистника Быкова, простоватого Боба Дилана, злобной компиляторши Светланы Алексиевич…
Между прочим в СССР Евгения приняли (уже приняли) в Литературный институт без аттестата зрелости (из школы выгнали за хулиганство) и почти одновременно — в Союз писателей, в обеих случаях сочтя достаточным основанием первый сборник.
А ведь и я мог пойти по этому пути возвышения. Нет, не как поэт — куда мне до «идут белые снеги, как по листьям кружа…», но как журналист. Девчонки и водка, что уж лукавить, сбили меня с пути. Учился же без напряжения в вузе, три с половиной года армии могли обернуться воинскими сборами и военной кафедрой, больше трех лет бы сэкономил. А в журналистике вполне мог бы и собкором стать для центральной газеты или журнала всесоюзного…
В животе, промытом чаем, квакнуло. Ах да, ресторан. Прошел тамбур и вот я занимаю место за угловым (привычка с прошлой жизни прятать спину) столико и говорю официанту (в этом времени мужчины охотно идут в сферу обслуги):
— Никого больше не подсаживай. Мне — полный обед по твоему выбору и триста грамм водочки…
Мне стало грустно просто так
Без видимой причины
Из за какой-то ерунды, какой-то чепухи.
Когда грустят серьезные, солидные мужчина
Они не сочиняют печальные стихи.
Они не едут