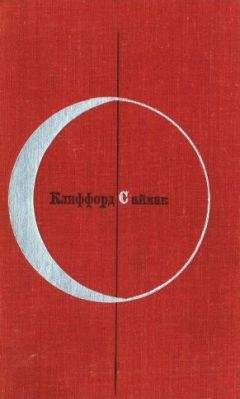провела за конторкой бухгалтера в райсобесе, и вспоминала французский лишь для
того, чтобы перевести какую-то идеологическую банальность из школьного учебника.
Она умерла, когда мне было четыре года — от рака и новомодного лекарства. Так
оборвалась единственная нить, связующая меня с милым сердцу серебряным веком, по
которому я грустил столь безнадежно, будто бы сам пережил его на семьдесят лет.
Я так и не решился проведать ее могилку, поблуждал по кривым улочкам,
застроенным частными домами, и вышел на вокзальную площадь, где стоял в ожидании
пассажиров единственный городской автобус, который-то и номера не имел, а
назывался в стиле революционной романтики "Вокзал — Площадь Ленина". Об этом
автобусе ходили легенды. Никто не видел его в работе. Он так долго ждал каждый
раз достаточного количества пассажиров, что можно было пешком дойти до конца
маршрута и вернуться обратно. На сей раз я решил дождаться отправления, сел в
однодверный "деревенский" автобус, заплатил за проезд три копейки и стал ждать.
Водителя не было, слева от меня две по-деревенски немолодые женщины с жаром
обсуждали последнюю городскую "новость": старая бабка без роду, без племени,
торговавшая на базаре семечками, скончалась позавчера, а в матраце ее кровати
(жила она более чем скромно) нашли ДВЕНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ(!!!) рублей. А я все ждал и
ждал, млея под пекучими лучами солнца.
Наконец пришел шофер, окинул нас взглядом, и стал заводить мотор. Автобус
проехал за пять минут ту дистанцию, которую я вчера преодолел за мечтательных
полчаса. Я вновь был в центре и направил свои стопы дальше — мимо райкома,
молочного магазина, банка и почты в краеведческий музей. Он, как я и ожидал,
оказался закрыт. Вдоль нескончаемой улицы Юрия Гагарина тянулись огромные щиты
наглядной агитации, вполне заменявшей наглую рекламу. Трудно было спорить с
плакатом, декларирующим свободный мирный труд советских людей, и с другим,
показывающим истинное лицо американской военщины. Еще один плакат изображал
белокурого германца и русоволосого советского человека, рука об руку идущих в
Светлое Будущее (кто-то написал пониже квадратными буквами: "Смерть нацистам").
Я вернулся в центр и долго бродил по магазинам, рассматривал товары, и даже
купил в книготорге карманный атлас Украины. В магазине продавались еще полнее
собрание сочинений Эрнста Юнгера, "Мифологический словарь" и свежий
стенографический отчет о XX партконференции 1994 года. Уже стало смеркаться,
когда я вспомнил, что ничего не ел, и один за другим заглотал пять еще горячих
бубликов с маком.
Войдя во двор моего дома, я увидел едущую на роскошном голубом велосипеде Зину,
которая крикнула мне вдогонку:
— Антон дома, и тебя ждет!
На противоположной от дома стороне двора возвышалась гигантская труба котельной,
которая, как Эйфелева башня, была заметна из любого конца Орехова. Я помню,
когда еще дед служил в милиции, какая-то полоумная жена уголовника-рецидивиста
(его только что посадили в четвертый раз), ставши посреди двора, орала во
всеуслышанье, что "повкыдае усих нас" в эту трубу (ее потом, кажется, забрали в
психушку).
Антон сидел на кухне, что-то писал и живо отреагировал на мое появление:
— Какое вероломство! Ты только подумай! Она приехала только для того, чтобы
сообщить мне о том, что не собирается выходить за меня замуж!
— Антон… Нам бы ваши заботы!..
— Кому вам?.. А…
Он разорвал уже почти написанное письмо и сказал:
— Ладно, брудер. Идем наверх, к Гале, познакомлю, — и, заметив сомнение на моем
лице, добавил, — А зачем же еще ты сюда приехал?
Его логика была неоспорима, и я последовал за ним.
Галя встретила нас в домашнем зеленом халате с какими-то иероглифами на
лацканах. Она угостила нас салом, вареными раками и молдавским вином, а сама
рассказывала (уже в своей версии) историю об умершей старухе, причем найденная
сумма увеличилась до двадцати тысяч. Я до неприличия много ел, а Антон
демонстративно жаловался на жизнь и женское вероломство и сетовал на потерю трех
лет, "лучших трех лет" жизни. Галя его утешала и дивилась, что он, будучи
комсомольским вожаком, не может найти себе девушку. Вся квартира Гали (а ведь
когда-то это была моя, то есть Вальдемарова, квартира) была выдержана в японском
стиле, а ее халат оказался кимоно. Галя действительно была очень похожа на Эдиту
Пьеху (самой Пьехи я в этом мире не обнаружил), и не верилось, что этой
тридцатилетней женщине сорок три года.
Около одиннадцати Антон шепнул мне: "Действуй" и ушел.
В ту же ночь мне приснился сон, заслуживающий особого упоминания. Я в Киеве.
Лето. Тепло. Каштаны. Сажусь в поезд. В купе входит гренадерский поручик в
форме, но без фуражки. На вид лет 20. Да это же мой прадед Иван Сергеевич
Тарнавский! С ним дама в дорожном платье и вуали. Это его жена, моя прабабушка —
Ханна Николаевна, в девичестве фон Трампедах. Ей — 17. Мысль мчится, обгоняя все
поезда вместе взятые. Я таинственным образом перенесся на сей раз в прошлое — в
лето 1917 года — еще не все потеряно — договариваемся с поручиком — и к
Корнилову — чтобы шел на Петроград без малейших колебаний и вешал всю
демократическую сволочь! "Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые!" В
душе — оркестр и слезы. Но тут поручик замечает, что на мне креста нет. Начинаем
спорить. Я готовлю целую тираду апологии наших прекрасных славянских богов.
Ханна Николаевна, как-то постарев на глазах, нас примиряет. Смотрю в окно. Поезд
уже едет вдоль Днепра. На Днепре громадные валы, вровень с поездом, который едет
по обрыву на высоте десяти метров над уровнем воды. Это напоминает вагнеровскую
увертюру. Невероятно хорошо вижу без очков; все яркое и красочное, как на
американском буклете. Дальше водная гладь, над которой встает солнце. Несколько
девчонок в футболках и закатанных до колен спортивных штанах моют ноги в воде.
Так хорошо вижу, что различаю маникюр на ногтях пальцев ног (на расстоянии 15
метров!) Пожалуй, это девчонки из нашего университета. Значит, началась массовая
репатриация в прошлое (лучше жить в 17-м, чем в 96-м!) Надо как-то сойти вниз…
Проснувшись в бывшей нашей квартире, я тут же вышел на балкон и с высоты
третьего этажа оглядел по-утреннему безлюдную площадь. Нет, это всего лишь сон.