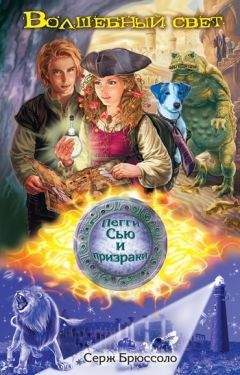решил — женщинам скарбом и землею владеть. Так что попрошу меня больше не донимать своими фантазиями, мистер Дюпре. За Вашу мелочность не желаю называть Вас графом, хотя приличия требуют. Так что, граф Каледонский, возьмите свой член и засуньте его в свою же собственную задницу!
Все же удалось пробить мне эту врожденную английскую маску деланного безразличия: Дюпре поперхнулся чаем и закашлялся. Человек, услышавший его страдания, дернулся было помочь, но я жестом остановила его порыв. Фаравахар на груди сверкнул, отразив низкое уже солнце, и служка замер на месте.
— А еще, Александр, Вы видите это? — я показала на крест, заключенный в круге. — Не пяльтесь на мою грудь, она не про Вас.
— Ходят слухи, что множество мужчин не только глазели на нее, но и лапали, — сиплым голосом попытался задеть меня граф.
— А еще ласкали губами, языком и вцеплялись в соски зубами, — все же хорошо, что английский в Петербурге и в России вообще совсем непопулярен, не то все же вышел бы скандал в заведении, пойми кто мои речи. — Но Вы опять же, Александр, плохо знаете страну, в которой пытаетесь делать свой бизнес. Мне никто ни слова не скажет за мои любовные увлечения. Простая дворянка будет ловить на себе неприятные взгляды в обществе, но и ее репутацию это не уничтожит. Такое поведение не приветствуется, но в наше время не осуждается. А уж мне простится все. Вот из-за этого.
И я щелкнула ногтем по серебру символа своей веры.
— Ведьма, — прошипел Дюпре.
— Освещенная, — поправила я, сказав это по-русски.
Несколько посетителей за соседними столиками обернулись. Кто-то посмотрел на меня с долей страха, кто-то с восторгом.
Все привычно.
— Освещенная, — попробовала я перевести это слово на английский. — Та, на кого упал Свет. Одна из тех, кем богата Империя.
— Господь проклял ее такими, как Вы!
— При этом ваша компания выискивает освещенных по всей вашей империи, пытаясь закабалить их на службу. Человек! — позвала я служку. Я закончила, благодарю за чудесный шоколад. Кофий тоже неплох.
— Позвольте спросить, сударыня, — подскочил половой, — серебром или ассигнациями?
— Бумажными.
— Тогда попрошу пять рубликов.
Кофейный дом — заведение не дешевое, но и место выбирала я сознательно. Под свой кошелек, а не жадность Дюпре. Розовая бумажка [8] совокупно с жестом, что возврата не надо, сделала человека счастливым.
— Это еще не конец, мисс Александра, — бросил мне в спину англичанин.
— Это прямая угроза, мистер Дюпре? — обернулась я.
Спросила на русском.
— Это…
Я не могла этого видеть, но мои зрачки на мгновение сжались в точку, а граф прохрипел:
— Да, это угроза, мисс Болкошина.
Граф ужасно коверкал русские слова, но произнес это громко и так, что услышали его все служки и посетители.
— Вот и хорошо, — кивнула я и покинула кофейню.
До Управы благочиния [9] у Вознесенского моста через Екатерининский канал я дошла пешком. И не для того, чтобы привести мысли в порядок — они и так были ясны как небо в погожий день — а успокаивая нервы. Видит Мани, как мне хотелось выхватить из потайной складки в юбке пистоль и разрядить ее в мерзкую харю графа Каледонского! Но тогда до Средней Мещанской я добиралась бы не сама, а в компании полицейских и в сопровождении пристава из Особого отдела.
Двухэтажное здание Управы просило ремонта, а еще лучше — сноса и полного перестроения. Обер-полицмейстер столицы Иван Саввич Горголи, насколько мне известно, неоднократно подавал прошение на имя Сергей Кузьмича Вязмитинова [10], но министр к чаяниям своего подчиненного оставался глух, так что приставы продолжали ютиться в тесноте. Петербург быстро разрастался, полицейская же власть за ним не поспевала. Зато даже быстрее города расширялись ряды лиходеев всех мастей. До Сенной площади отсюда рукой подать, но туда и днем соваться не стоит, а ночью за кошелек или жизнь никто и полушки не даст.
Городовой на входе меня узнал сразу и бодро козырнул, удостоившись моего благодарственного кивка.
— На месте ли Николай Порфирьевич, любезный?
— У себя-с, милостивая государыня. Извольте пройти-с!
Пристав уголовных дел Николай Порфирьевич Спиридонов и в самом деле был у себя. Встретил он меня любезно, но показушно вздохнул, выразительно посмотрев на заваленный бумагами стол. Я лишь мило улыбнулась ему и, дождавшись кивка, присела на стул для посетителей.
— Сашенька, ты коим чертом ко мне?
— Дюпре.
Спиридонов еще раз вздохнул, отодвинул папку с каким-то делом и спросил:
— Никак не можешь успокоиться?
Николаю Порфирьевичу позволительно общаться со мной моветон. С отцом он был дружен, часто бывал у нас в гостях, а его дочь знал если не с пеленок, то с тех времен, когда та с громким визгом носилась по комнатам, размахивая прутиком как саблей. И я точно знаю, что себя в смерти Платона Сергеевича Болкошина он винит. Не доследил. И предупреждал его ведь по поводу графа Каледонского и всей его коммерческой компании, но не смог сберечь друга.
— Вы бы успокоились? Отца убили. И убил Дюпре.
— Поводов для расследования не было, — этот разговор заводился уже много раз, и я понимала, что сам пристав ни мгновения не верил в естественность причин смерти видного промышленника Болкошина.
Ведь с виду все было обыденно: Платон Сергеевич переходил Неву в зимнее время, был основательно подшофе. Упал в сугроб, замерз. Видимых ран, синяков на теле не обнаружили, сам Болкошин был расхристан и без шапки.
Но для опытного пристава Спиридонова в деле имелось слишком много несоответствий. Как и для меня.
Отец мало того, что выпить мог ведро, и по нему не сразу так скажешь, что вина в жилах больше чем крови, так и Свет его был особенный. Все, что касалось телесного, он умел контролировать походя. Поэтому и я никогда в детстве не болела: любую хворь он излечивал посмеиваясь. О себе и говорить не приходилось — в свои почти шестьдесят papá выглядел на сорок, здоровьем пылал за версту. И это ведь была лишь часть его дара.
Сомнения у Николая Порфирьевича вызывало и само место, где обнаружили тело. Традиционно зимой через Неву у Императорского дворца переправляются от левого крыла Адмиралтейства к Биржевой площади, если лед крепок. В оттепель мало кто рискует и топает до Исаакиевского наплавного моста или до Петербургского, ведущего в Петербургскую же сторону к Троицкому собору.
Отца же нашли прямо посередине Невы между дворцом и Петропавловской крепостью — в самом широком месте реки, куда и в лютые морозы остерегаются соваться и безрассудные