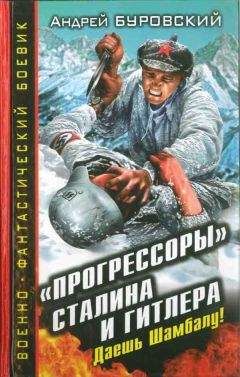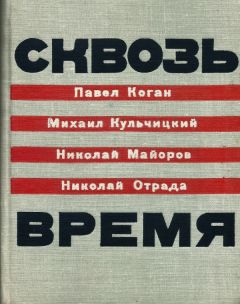Ознакомительная версия.
У самой Германии сопротивляться сил стало не больше, чем в России в восемнадцатом году, или у Польши в конце восемнадцатого века.
На экране проплыли жирный Черчилль с незнакомыми деятелями – как можно понять, французскими и польскими: подписывали документы о границах оккупационных зон, об ограничении аппетитов отхватившей юг Германии Италии…
– Неужели полное расчленение? Навсегда? – глухо спросил фон Треска.
– Как в Польше? – так же глухо спросил фон Мюлльаймер.
– Скорее всего не навсегда, но всерьез и надолго, – безмятежно ответил фон Берлихинген, опередив Петю – тот высказался бы не так решительно.
– А до того нацики сбросят всех нас, как переспелое яблоко, – вбил последний гвоздь Канарис, – сбросят и передавят. Всех – за то, что умные и метим в Наполеоны. А вас, господа дворяне – еще и за происхождение.
– Вы можете показать будущее господина Канариса? – отрывисто спросил Мильх Петю.
– Могу и его, и ваше… С какого начать?
– Начните с Мильха… – заулыбался Канарис.
Клубящийся туман сложился в заасфальтированный двор между глухих каменных стен. Двое с засученными рукавами швырнули к одной из этих стен человека в полосатой пижаме, с лицом постаревшего «фон Бира». Солдаты подняли ружья, офицер в черной форме взмахнул рукой… Залп! Все выглядело очень натурально, этот нелепо и жалко бьющийся на асфальте человек, рухнувший лицом вниз, скребущий скрюченными пальцами, с жуткими воронками выходных отверстий в спине.
Повисло напряженное молчание. Упитанный Мильх побагровел, некоторые из присутствующих побледнели.
– А покажите-ка будущее Канариса… – мстительно нарушил молчание приходящий в себя «фон Бир».
– Пожалуйста…
Стал виден почти такой же заасфальтированный двор, только с металлической виселицей: громадный треугольник с металлическим воротом наверху. Повешенный в железном ошейнике судорожно бился, хрипел человек с неузнаваемым лицом, затихал. Трое с засученными рукавами, один внимательно смотрит на часы. Ноги повешенного сократились последний раз, начали медленно выпрямляться. Остановились.
– Тридцать шесть минут! – громко сказал эсэсовец с часами.
Двое других противно засмеялись, один из них начал крутить ворот. Металлический тросик потянулся, опуская на асфальт неподвижное, грузное тело. Кровь стекала из-под железного ошейника; не один Петя был доволен, что не видно лица.
– А если бы сладчайший Фюрер остался у власти? – Фон Манштейн-Левински задал вопрос очень мягко. – Какова тогда судьба наших общих друзей, Эрхарда и Вильгельма?
– А свою узнать не хотите?! – огрызнулся Канарис, непроизвольно потрогав свою шею. Его жест не вызвал улыбок.
– Очень хочу, – так же мягко проговорил фон Манштейн.
Петя ввел новые условия задачи, сделал знак… Перед зрителями появился Эрхард Мильх: он яростно отбивался маршальским жезлом от людей в форме британских солдат. Так яростно, что двое молодых парней отступали, закрываясь руками.
– Убирайтесь, чертовы кретины! – вопил Мильх.
Тут еще один британец кинулся сзади, сделал подсечку… Солдаты навалились на лягающегося, орущего Мильха. Один из них выкручивал руку, другой тянул жезл на себя… маршальский жезл оказался в руках у солдата, тот начал с интересом рассматривать резную палочку. Другие солдаты деловито поволокли Мильха, заворачивая руки ему за спину, Мильх хрипел, плевался и кусался. Один из тащивших не выдержал, дал ему заушину, да так, что звон пошел по старинному каменному залу.
Сцена была такая, что невольно вызывала улыбки на лицах. Только сам Мильх подпрыгнул, стукнув кулаком по ручке кресла.
– Это замок Зихерхаген на побережье Балтийского моря, – объяснил Петя. – Маршал фон Бир будет застигнут врасплох, и кончится это вот так…
Появился зал, в котором международный трибунал называл маршала фон Бира господином Мильхом, приговаривал его к пожизненному заключению.
– Это незаконно! – завопил, вскакивая, Мильх. – Произвол!!
– Незаконно! – так же точно вопило изображение Мильха. Его опять скручивали, уволакивали.
Впрочем, потом ему сокращали срок, похудевший Мильх с ввалившимися щеками выходил из здания тюрьмы в 1955 году. Под конец жизни ему даже вернули маршальский жезл! Мильх отчаянно смотрел на самого себя: старого, уставшего, прижимавшего обеими руками к груди драгоценную палочку.
Зрители невольно улыбались.
– А я? – уточнил Вильгельм Канарис. – Если бы сохранился сладчайший Фюрер, меня бы тоже посадили в тюрьму?
– Не успели бы… Сладчайший Фюрер добрался бы до вас после заговора…
Появилась точна такая же сцена, как и первый раз, только палачей было четверо, а двор немного другой.
– Я участвовал в заговоре и оставил какие-то улики?! – страшно удивился Канарис.
– Не оставили… но в вашем дневнике нашли записи, где вы не очень хорошо отзывались о сладчайшем Фюрере…
Канарис кивнул. Он держался очень хорошо, только еще раз прикоснулся к шее пальцами.
– Вы просили показать и ваше будущее, генерал? – повернулся Петя к фон Манштейну. Тот кивнул.
– Если бы Фюрер оставался у власти, было бы так…
В комнате на всеобщее обозрение появился британский трибунал. Фон Манштейна приговаривали к восемнадцати годам тюрьмы за «недостаточное внимание к защите жизни гражданского населения». Впрочем, скоро срок скостили до двенадцати, в пятьдесят третьем году вообще выпустили «по состоянию здоровья».
Мелькало уважительное лицо канцлера Федеративной Республики, фон Манштейн трудился военным советником правительства, получал пенсию…
– Как будет, если у власти находится Розенберг, мы уже знаем, – отрывисто бросил фон Манштейн.
– Знаем, ребе Левински, – издевательски заулыбался Эрхард Мильх. На шее фон Манштейна надулись жилы.
Молчание. Только перхал, прокашливался приходящий в себя Канарис.
– Ладно! – подвел итоги фон Берлихинген. – Уже понятно: при таком раскладе – общий проигрыш. Германия охвачена революцией, гражданской войной и в конечном счете расчленена. Но никто из нас до этого не доживет… Что, может быть, даже и к лучшему.
– Кстати… В качестве чертова прагматика прошу еще об одном… – Голос Канариса чуть дрогнул. – Мы смотрели, как могли бы сложиться наши личные судьбы, останься власть у сладчайшего Фюрера… А не угодно ли вам всем посмотреть, что в этом случае будет со всей Германией? А то мы как-то совсем списали со счетов сладчайшего Фюрера… Разумно ли?
– Будет война… – грустно сказал Петя. – Очень большая война…
– Лучше война, чем оккупация и растаскивание Отечества по частям.
– Петер не уточнил, что единственный шанс Германии – блицкриг… – мягко сказал фон Берлихинген. – А блицкриг у нас не получится…
– Тоже расчленение Германии?!
– Да, только между советами и англосаксами.
– А кроме того, будет еще и вот так… – произнес Петя все так же грустно. – Причем это уже пятый год войны… Люди невероятно озвереют.
Перед собравшимися встала улица готического городка, весенняя снежная распутица. Странный даже для войны звук: многоголосый женский визг и вой, какое-то гортанное повизгивание тоном ниже. В окне мелькнуло перекошенное страхом немолодое лицо; это был единственный житель городка, которого вообще было видно с начала и до конца.
На улице – группа плохо одетых, перепуганных девчушек – явно беженцы. Солдат в ушанке с красной звездой, радостно рыгоча, волок девочку лет пятнадцати. Других таких же девочек уже валили, рвали на них одежду.
Девочку рванули, повалили.
– Мама!
Девочка упиралась в грудь навалившегося солдата, отчаянно завизжала, когда второй солдатик схватил ее за ногу, рванул вверх и в сторону юбку. Рядом трое солдат со спущенными штанами весело кричали что-то четвертому. Тот улыбался все шире и тоже начал снимать штаны.
– Что вы творите?! Вы люди или нет?! – кричала молодая женщина, прикрывая собою девчонок. Членораздельная немецкая речь странно звучала в потоке звуков, больше похожих на блеяние и рычание. Так же странно выглядело светлое белокурое лицо среди темно-смуглых плоских рож. Девушка вцепилась в солдата, снимавшего штаны, пыталась его оттащить. Солдат отпихнул ее локтем. Девушка была сильная и к тому же очень упорная. Пронзительно крича, она никак не давала солдату пристроиться к лежащей. Тот выпрямился; плоская страхолюдная морда приняла злое выражение. Не натягивая штанов, солдат ударил женщину кулаком. Та отлетала, стала падать. Другой солдат со смехом толкнул ее, она упала. Лежащую пнули сапогом, на скорчившуюся, стонущую навалились.
Учительница была старше подростков, сильнее. Под дикие крики ее распяли на земле вчетвером, пятый стал стаскивать штаны; его подбадривали странными, словно бы и не человеческими, голосами.
Ознакомительная версия.