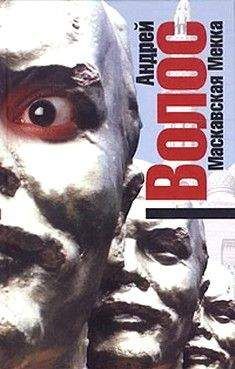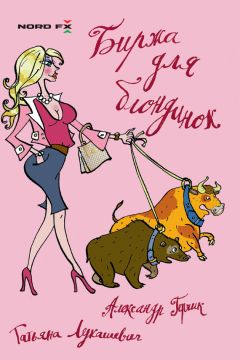— Я, я, — отозвался Витюша.
— Темнотища в лесу — глаз коли, — добавил Петька и вдруг прыснул: Слышь? Что вспомнил-то… Ты был, когда Коломийца назначали? Что молчишь? Был, нет?
— Не был, не был…
— Ох, умора! — Петька нагнулся к нему и зашептал.
Александра Васильевна отчего-то начала дрожать противной мелкой дрожью.
— Не твоего это ума дело, — сказал Витюша недовольно.
— Это точно, — легко согласился Петька. — Не моего.
Луна выкатилась в полную силу, заливая болото контрастным серебряным светом; время от времени на нее наплывало скользящее по небу волнистое облако, и тогда тени начинали пьяно пошатываться. После беспросветного лесного мрака казалось, что все видно как днем.
— Николай Арнольдович! — крикнула она срывающимся голосом. — Да Николай Арнольдович же!
Мурашин неподвижно стоял метрах в десяти, слившись с клонящимся к воде кустом. Вот повернул голову и замахал руками — мол, тише, тише! Брезентуха его шумно коробилась при каждом движении. Еще раз махнул — уже призывно.
— Не волнуйся, уже скоро, — негромко сказал он, когда Твердунина подошла. — Замерзла?
— Нет, — ответила Александра Васильевна, стуча зубами, но одновременно чувствуя, как плеснуло в душу теплом от его «ты». — Это так… просто так… нет, не холодно.
Мурашин не слушал: настороженно подался вперед, всматриваясь. Несколько пузырей всплыли и бесшумно лопнули на поверхности озера.
— Начинается, вроде… Так не холодно, говорите? Видите, сапоги-то пригодились, — рассеянно бормотал он, не отрывая взгляда от воды. — Нет, показалось… По таким местам в сапогах-то насилу… кое-как… а уж без сапог!.. Точно: показалось. Показалось, показалось…
— Николай Арнольдович, а вы детство помните? — шепотом спросила Твердунина, втайне надеясь, что он возьмет сейчас — и расскажет все, что так томит ее и не дает покою.
— Детство? — удивился Мурашин, бросив на нее холодный взгляд. Интересный вопрос, Шурочка. На пятерку. — Негромко чертыхнулся, потом приставил ладони рупором ко рту: — Петька! Виктор Иванович! Разобрались там? Давайте сюда! Поближе! Да не шумите, черти!.. Детство, говорите? А как же! Конечно. Все как положено. Даже фотографии есть. Не подкопаешься.
И твердо на нее посмотрел.
— Ну да, да… Ведь я тоже помню… Смутно, но помню… Вот не знаю только…
Она замялась.
— Что?
— Нет, ничего, — сказала Александра Васильевна, с досадой понимая, что он ничего не откроет, и отвернулась.
— Багор, багор возьми! — снова негромко затрубил Мурашин. — Багор где?
Мелкая дрожь пробирала ее до самых кишок.
В самых дальних закоулках мозга слоились прозрачные, как отражение в оконном стекле, воспоминания. Вот открывается дверь, входит отец — хмурый, насупленный; вешает шинель, садится на хромой табурет, протянув ноги поперек прихожки; мать стаскивает с него сапоги, разматывает и откладывает в сторону портянки; тазик с теплой водой наготове; отец кряхтит, а мать приговаривает, моя ему ноги: «Васечка! Васечка устал!.. Сейчас, сейчас!..» И вот — уже в тапочках, хоть еще и в мундире — отец проходит в комнату, снимает китель, садится к столу, наливает себе полстакана водки, выпивает. И тотчас появляется мать с огромной, в голубую кайму, тарелкой пламенных щей…
Как же так? Ведь она помнила детство — кособокий дом в конце Краснопрядильной, два окна на улицу, герань, крыльцо… На крыльце зимой лежал снег. А теплыми вечерами отец сидел с папиросой. Летом дверь всегда была нараспашку… в проем мать вешала полотнище марли от мух… иногда отец выносил стул, садился в майке и старых галифе, мать закрывала ему плечи газетами и стригла… потом сметала курчавые волосы веником с теплых досок… еще пчела, ползущая по кромке железной кружки с молоком… колкая трава на откосе…
Но все это было блеклым, едва различимым — как отражение на оконном стекле, когда под вечер смотришь на улицу: за окном дорога, дома, деревья, люди, и все это видно отчетливо и ясно; а поверх лежит бесцветное изображение комода, кровати, портретика на стене… всех этих детских пчел и крылечек… всей жизни до директивы Ч-тринадцать, до начала нового служения…
Ей хотелось бы вспомнить именно переломный момент — конец прошлой и первые минуты новой жизни; момент назначения, час исполнения директивы!.. Наверное, он все объясняет. Каким он был? И почему всегда так мутит, стоит лишь подумать?..
Александра Васильевна с дрожью оглянулась — чаща густилась, подступая к болоту.
Она не лучше и не хуже других секретарей… поэтому появилась на свет тем же порядком, что и все: ночью, в гнилом лесу, из болота, в окружении соратников… старших товарищей по гумрати…
Это понятно, да… Но раньше, что было раньше?.. что предшествовало этому?
Она зажмурилась, поднося ладонь к виску, где стучала боль, и напряглась, чтобы вспомнить, наконец!.. Но увы: как и прежде, там лежало темное, опасное пятно беспамятства. Только тошнота вновь накатила сладкой волной да ослабели руки; перед глазами слоился туман, туман… а в груди что-то противно булькало — будто когда-то из нее вынули сердце и влили вместо него пару стаканов густой болотной жижи.
Александра Васильевна перевела дыхание. Нет, ничего не вспомнишь: очнулась уже в кабинете, за столом с бумагами, с влажным ратбилетом в руке… полная бодрости, новых планов…
— Стели здесь! — между тем командовал Мурашин. — Расправь!
Виктор Иванович и Петька под руководством Николая Арнольдовича развели подробную суету: деятельно топтались по берегу, расстилали брезент (Мурашин несколько раз заставлял перестилать, выискивая местечко поровнее) и раскладывали извлеченную из мешков одежду. Ниночка зачерпнула воды эмалированным ведром, повылавливала из нее, как могла, сосулистые пряди тины, и теперь собранно стояла возле с черпачком в руках.
— Во! во! — внезапно вскрикнула она, показывая на середину озера. Пошло!
И правда, там возник пологий бугор жидкой грязи. Через секунду он подрос до размера большого валуна и, когда свойства поверхностного натяжения уже не могли сохранять его гладким, превратился в шумный пузырчатый грифон.
— Есть! — Мурашин возбужденно потряс кулаком. — Все готовы?
Болото кипело; в самом центре вода била ключом, вскидывая и трепля какие-то ошметки, плохо различимые в зеленоватом свете луны; по краям тяжело колыхалась, и часто то тут, то там всплывали и громко лопались вонючие сероводородные пузыри.
— Сеть где? — взвинченно спросил Мурашин, оглядываясь. Он уже стоял у самого края. — Сеть почему не приготовили, уроды?! Первый раз, что ли?
Витюша стукнул себя кулаком по лбу, схватил с брезента рыхлый тючок и стал по-собачьи яростно трепать его, разворачивая; что касается Петьки, он давно уже изготовился: стоял с багром наперевес, мелко перетаптываясь, словно кошка перед прыжком; волнующаяся жижа захлестывала мыски его сапог.
— У-у-у-у-а-а-а-а-а-а-а-а! — протяжно и жалобно пронеслось вдруг над землей.
Александра Васильевна обмерла и вцепилась в Нинин рукав. Казалось, лес тоже обмер, ожидая продолжения. И оно последовало: после недолгой испуганной тишины еще раскатистей и страшнее:
— У-у-у-у-а-а-а-а-а-а-а-а!..
— Вот дьявол, — пробормотала Ниночка. — Ну что тянет, что тянет… Скорее бы. А, вот! Пошел!
Лунный свет играл на бурлящей жиже, и там, где кипение было особенно сильным, вдруг кратко мелькнула человеческая рука — высунулась и тут же ушла, с брызгами хлопнув по воде растопыренной пятерней. Александре Васильевне почудилось, что на пальце блеснуло обручальное кольцо.
— Давай! — страшно крикнул Мурашин, отмахивая.
Витюша швырнул сеть; спутавшись в полете, она упала комом и слишком близко. Петька стоял по колено в болоте, силясь дотянуться багром.
— Мать!.. — рявкнул Николай Арнольдович, бросаясь к шоферам. — Вашу!.. Еп!.. Ну!..
Сеть полетела второй раз — расправилась было, накрывая, да Витюша слишком рано поддернул — и опять зря.
— Тля!..
В грифоне гейзера, в мути и клочьях тины что-то мучительно всплывало и ворочалось, и снова уходило на дно; вот опять показалась рука… вторая!.. канули… Вынесло было ногу, облепленную мокрой штаниной и обутую в черный ботинок — тоже ненадолго… Торчком показалась запрокинутая голова со слипшимися волосами и распяленным ртом…
— У-у-у-у-а-а-а-а-а-а-а-а!..
Бурун вскипел и поглотил ее.
— Уйдет же! уйдет! — рычал Мурашин, вырывая сеть у Витюши. — Дай, мудак!
Они топтались, мешая друг другу.
— Сейчас сделаем! — кряхтел Виктор Иванович. — Погодите-ка!..
Мурашин злобно толкнул его, и Витюша, охнув и взмахнув руками, с чавканьем сел на мокрую кочку. Николай Арнольдович подсобрал мотню и резко швырнул. Сеть расправилась и легла. Гейзер клокотнул и снова выбросил руку. Пальцы сомкнулись в кулак на ячеях.