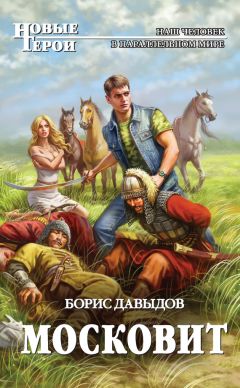Ознакомительная версия.
Да, мне хорошо известно, сколь велики и тяжки обиды и страдания, перенесенные паном по вине злобного и недалекого человека, коего молодой, неопытный пан Конецпольский[17] имел несчастье сделать правою своей рукою, назначив подстаростой Чигиринским[18]. Всей душою сочувствую пану и соболезную, а также всецело разделяю праведный твой гнев. Но опять же хочу спросить: чем провинилась отчизна наша, на которую обрушил ты мщение свое? Твой обидчик, виновник бед твоих – Чаплинский, с него и надо взыскивать! Ведаю, что пытался ты найти на него управу в столице и не добился своего, лишь вынес насмешки и унижения… О том тоже жалею и скорблю, ибо всякие подобные события марают честь и достоинство государства! Но подумай, ведь и куда более славным и известным мужам случалось терпеть поношения, неправедные суды, великие обиды и несправедливости… И что же? Разве винили они в бедах своих отчизну, разве призывали на борьбу с ней ее злейших врагов, разве терзали родную землю, заливая ее кровью? Ведь ты христианин, той же святой грецкой веры, что и я…»
Человек тяжело вздохнул. Нелегкая это задача – смирить льва, почуявшего запах крови!
После недолгого раздумья новые строчки стали ложиться на лист:
«А первейший долг христианина – верить, что все в мире происходит только по воле Его. И Он же, страдавший на кресте за весь род людской, каждого наградит и каждому воздаст. Коль случается так, что достойный терпит муки и незаслуженные обиды, – значит, в том есть какой-то Божий промысел, недоступный пониманию смертных. Ибо пути Господни неисповедимы. Подумай об этом, пане, обратись мыслями к Нему в смиренных молитвах, и сам тогда увидишь и поймешь, что избрал неверный путь, позволив обиде и гневу затмить свой разум! Да, в отечестве нашем, к великому сожалению, многое скверно. Многое надобно менять и улучшать. Но не таким же способом, который ты избрал, разжигая повсюду нетерпимую вражду, возбуждая дикие инстинкты неразумной черни и проливая кровь христианскую! Подумай и вот о чем: разъярить чернь легко, а успокоить – неизмеримо труднее. Ты рассылаешь повсюду универсалы, призывая ее к неповиновению панам своим, пуще того – к их истреблению; а что будешь с нею делать после? Как приведешь к повиновению? Если дикий зверь попробует вкус человечины, он так и будет упорно нападать на людей, пока его не убьют. Точно так же и тебе придется восстанавливать порядок и спокойствие ужасными мерами, пролив новые потоки крови, поистине подобные рекам.
Терпением, воззванием к разуму и смиренными просьбами можно гораздо скорее добиться и справедливости, и прекращения гонений на православную веру, и возврата тех привилеев, коих за бесчинства и мятежи было лишено Войско Запорожское десять лет тому назад. Ибо не все же члены сейма безрассудны и погрязли в распрях да интригах! Хвала Господу, среди них хватает вполне разумных, достойных панов. С ними и можно, и нужно договариваться.
Потому прошу тебя и заклинаю: отринь гнев свой, хоть тысячу раз и справедливый! Гнев, который, осмелюсь напомнить, есть смертный грех. Остановись, пока не поздно! Вложи меч в ножны и вступи в переговоры с сеймом. Чтобы славное имя Хмельницких могло и впредь произноситься в Речи Посполитой с уважением и гордостью.
Поступи так хотя бы из уважения к памяти безвременно скончавшегося короля нашего Владислава, который всегда благоволил и тебе, и всем Войску Запорожскому! Уверен: будь он жив, сам обратился бы к тебе с увещеванием, прося пощадить Отчизну».
Сенатор, воевода Киевский и Брацлавский, пан Адам Кисель одобрительно кивнул. Право же, получилось очень неплохо! Завтра же письмо будет отправлено Хмельницкому. Пусть все эти Потоцкие, Заславские, Вишневецкие галдят, топая ногами: «Никаких уступок зрадникам и бунтарям! Огнем их и мечом, другого языка они не понимают!» А вот посмотрим, кто окажется прав…
Хмельницкий, довольно улыбнувшись, отложил лист, исписанный четким убористым почерком.
– Добре, Иване! Ох, красиво написано! Какие слова подобрал, да как расставил – сам Цицерон, поди, похвалил бы. Мед с каждой строки так и стекает… Светлая у тебя голова! Переписывай набело да посылай хану.
– Всепокорнейше благодарю ясновельможного пана гетмана, – расплылся в улыбке генеральный писарь Выговский. – Право, его мосьц слишком высоко ценит скромные способности мои…
– Не возражай, коль говорю: «светлая», стало быть, такая и есть, – лукаво усмехнулся Богдан. – Ведь ежели бы не была светлой, снесли бы ее к бисовой матери под Желтыми Водами… Иль сохранили бы, выпади пану писарю дорога в Крым, с арканом на шее. Зачем татарам безголовый пленник, а? – И гетман громко, заливисто расхохотался.
Выговский, скорбно поджав губы, с видом человека, смирившегося с судьбой, развел руками:
– Что ясновельможный пан гетман милостиво сохранил и жизнь мою, и свободу, да еще возвысил, приблизил к своей особе – за то вечно буду благодарен. И отслужу, с Божьей помощью, и пользу постараюсь принести. А коль угодно пану гетману смеяться надо мною – что же, на то его воля…
– Да ну, Иване! – махнул рукой Хмельницкий. – То не насмешки. Ведь и впрямь галдели тогда мои молодцы-полковники: не нужен он нам, казнить смертию аль татарам отдать! А я их не послушал, простил тебя да при себе оставил. И, вижу, не ошибся! Польза от тебя и впрямь есть, причем великая! И умом Бог тебя наградил, и красноречив, и пишешь отменно. Потому сделал тебя генеральным писарем, хоть двух месяцев не прошло, как ты бился против нас! Ну да ладно, кто старое помянет… Один лишь Создатель без греха.
– Истинно, ясновельможный пане! – перекрестился Выговский. – Только высший судия безгрешен. А ошибку свою, что не сразу понял высокие замыслы пана гетмана и к молодому Потоцкому на службу пошел, я много раз уже проклинал и оплакивал. Так ведь еще римляне говорили: хомини ерраре эст![19] Ведь и куда более опытные мужи, бывает, ошибаются, да не в сложных вопросах, где даже гений призадумался бы, а в самых что ни на есть простых…
– Да, более опытные… – вздохнул Хмельницкий, на лицо которого наползла тень. Снова мучительной болью свело сердце при мысли, терзавшей его долгое время: как мог он быть таким слепым, как не разглядел беды под самым носом?! Впустил в дом свой литвина этого, змею подколодную – Чаплинского! Сам же радовался, глупец, видя, как приятно его общество Елене – скучать, мол, коханая не будет… Ничего не подозревал, совершенно ничего, вплоть до того рокового дня!..
И опять, в который уже раз, зашевелилось страшное сомнение: а ну, как вовсе не силою увез ее Чаплинский? Может, тот разбойный набег на хутор был лишь уловкой, для отвода глаз? Может, по согласию Елены все случилось?! Усилием воли Хмельницкий отогнал мучительное сомнение. Хватит. Не время… Вот разыщем – тогда и выясним. И суд будет по справедливости…
Ознакомительная версия.