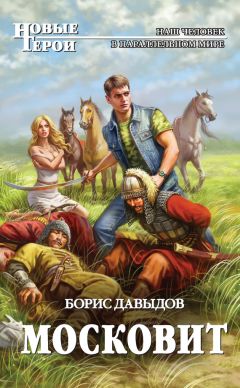Ознакомительная версия.
И опять, в который уже раз, зашевелилось страшное сомнение: а ну, как вовсе не силою увез ее Чаплинский? Может, тот разбойный набег на хутор был лишь уловкой, для отвода глаз? Может, по согласию Елены все случилось?! Усилием воли Хмельницкий отогнал мучительное сомнение. Хватит. Не время… Вот разыщем – тогда и выясним. И суд будет по справедливости…
– Повторяю: прошлое забыто, Иване! – внушительно произнес он. – А что иные казаки на тебя косо глядят – прости им. Время пройдет, все наладится… Ты нужен нам. Всему делу нашему святому нужен! Умных людей много, а вот таких, чтобы и красноречивы были, чтобы могли в высокую форму мысли да слова облекать, – куда меньше. А нам не только саблями да пушками воевать придется. Еще и бумагами! Дипломатия – это такая вещь, в ней любая мелочь важна, даже самая ничтожная. Вот я, к примеру, человек опытный, много повидавший, и крымского хана хорошо знаю… А такой отменный лист[20] к нему, собаке басурманской, вовек бы не составил! Не дал мне Господь твоего таланта…
– Благодарю ясновельможного за ласковые слова и похвалу, – склонил голову Выговский. – Коли пан гетман доволен, то высшая отрада мне!
– Доволен, не скрою. А теперь, Иване, думай, как лучше составить лист его милости Адаму Киселю. Нам надо перетянуть его на свою сторону, хотя бы на время. Во что бы то ни стало! Как вчерне составишь, покажи, да постарайся управиться поскорее.
– Слушаю, пане гетмане! – поклонился Выговский. – Уж так напишу – воевода прослезится от умиления! Мол, в тебе одном, отец-сенатор, единоверец и благодетель наш, видим мы надежду свою, опору и защиту. К стопам припадаем твоим, на высокий ум твой, благородство и милость уповая… И особо укажу: не зрадники мы, не бунтари, за оружие взялись вынужденно, едино лишь потому, что магнаты-своевольники, позабыв и страх Божий, и уважение к воле покойного короля, стали притеснять безмерно все Вой-ско Запорожское, и поспольство[21], и ругались над верою нашей. Дескать, святой великомученик, и тот не вынес бы подобного! Замолви за нас милостивое слово, защити от ярости и бесчинств всяких Радзивиллов, Потоцких, Вишневецких… А мы молиться за здравие твое будем денно и нощно. Сами же только того и желаем, чтобы мир и покой воцарились снова в земле нашей и чтобы казачьи привилеи нам вернули… Верно ли я понял желание пана гетмана?
Хмельницкий восхищенно воскликнул:
– И впрямь, светлая голова! Ну и ну! Да тебе цены нет, Иване! С ходу, без раздумья… Вот так и пиши, слово в слово.
– Тотчас же начну, пане гетмане. Одно лишь осмелюсь спросить: неужто твоя милость и впрямь надеется, что сенатор пожелает стать нашим заступником? Поверит, будто бы мы от чистого сердца, со всею серьезностью, просим его защиты, мечтая лишь о возврате привилеев? Ведь не глупец же он, наверняка заподозрит неладное…
Гетман, испытующе глядя на Выговского, ответил, понизив голос:
– Все средства хороши, лишь бы затянуть время да разлад в сейм внести. Пан Кисель не глупец, конечно, однако же и не слишком умен. Да еще характером мягок, свар и скандалов не любит, и свои пышные маетки ему дороги… Едва ли захочет увидеть вместо них пепелища! Потому надо постараться, чтобы поверил, а заодно возжелал себе лавров миротворца. Шутка ли – такую смуту утихомирить, покой в крае восстановить, без насилия, без крови, одними лишь уговорами и словом ласковым! Великая слава по всей Речи Посполитой пойдет, а недруги от зависти удавятся… Так что давай, пиши, Иване. Чует сердце, пан воевода тем же самым сейчас занят… Над бумагою корпит, в затылке чешет. Я не я буду, ежели мне через считаные дни от него листа не доставят!
Как подобало наивно-восторженной девице того времени, коих тщательно оберегали от грубой прозы жизни, наипаче же – от всего, связанного с ее интимными сторонами, панна Агнешка имела о мужчинах лишь самые смутные представления. Истоки их лежали либо в случайно услышанных обрывках разговоров зрелых матрон, либо – причем гораздо больше – в рыцарских романах, чтению которых родители и не думали препятствовать, видя в том одну лишь пользу. Благодаря этим романам и зародилось страстное Агнешкино чувство к пану Тадеушу: сама выдумала идеал рыцаря, сама увидела его земное воплощение, сопоставила, одобрила и влюбилась. Точь-в-точь как в книгах.
Властелин сердца ее, к вящему восторгу Агнешки, вел себя безупречно: в общении с дамой своей был скромен, смиренен, вежлив. Пожалуй, даже чересчур смиренен… впрочем, не будем повторяться насчет увоза, бархатной ночи и уединенной сельской церкви. Не хватало лишь одного: рыцарского подвига во славу своей дамы. В идеале – если бы на беззащитную даму… сиречь Агнешку, напали разбойники, а ее Тадеуш разметал бы их аки лев… Влюбленная панна чуть не плакала, представляя и этот подвиг, и себя, с восторженным смущением благодарящую рыцаря. И, разумеется, Тадеуша, который, преклонив колено, клялся, что ради своей крулевны готов сразиться хоть с тысячею таких же негодяев!
Но это все было лишь в теории. И Агнешка невольно завидовала дамам, которых в самом деле спасли. Вот бы оказаться на их месте!
Поэтому она так встрепенулась, задрожала, будто перетянутая струна, услышав слова московитской княжны, мечущейся в бреду. Или не в бреду… То лучше знать лекарю. Агнешке было известно лишь одно: бедная княжна, и без того страшно напуганная крымчаками, не вынесла зрелища посаженных на кол казаков и упала без чувств. (Панна хорошо понимала московитянку: ее саму, случайно увидевшую эту страшную картину, чуть не стошнило.) Правда, судя по испущенному дикому крику, речь к московитянке вернулась (воистину – клин клином!), но как это отразится на здравости ее рассудка – одному Богу известно. Надо уповать на лучшее, а пока пусть спит. Бедняжка столько пережила, так намаялась…
К тому времени, когда Агнешка, получив строгие инструкции княгини, явилась в комнату, отведенную для гостьи, служанки успели уложить ее в постель. (Вообще-то следовало направиться туда сразу, без промедления, но как можно не потратить хотя бы четверть часа, в надежде увидеть Тадеуша и перекинуться с ним парой слов?!) Перед этим обтерли тело тряпицами, смоченными прохладной водой, а затем облачили в ночную рубашку из личного гардероба самой ясновельможной княгини (Гризельда, чувствуя невольную вину, специально оказала княжне эту честь). Московитянка все так же не приходила в себя, время от времени вздрагивая и что-то шепча трясущимися губами. Видимо, ей по-прежнему мерещились кошмары.
Агнешка, искренне сочувствуя бедной княжне, и вместе с тем немного испуганная ответственностью, легшей на ее плечи, даже не заметила, что покоевка Зося тоже чем-то напугана. Причем не немного, а очень даже сильно. В отличие от невозмутимой, как всегда, Стефании.
Ознакомительная версия.