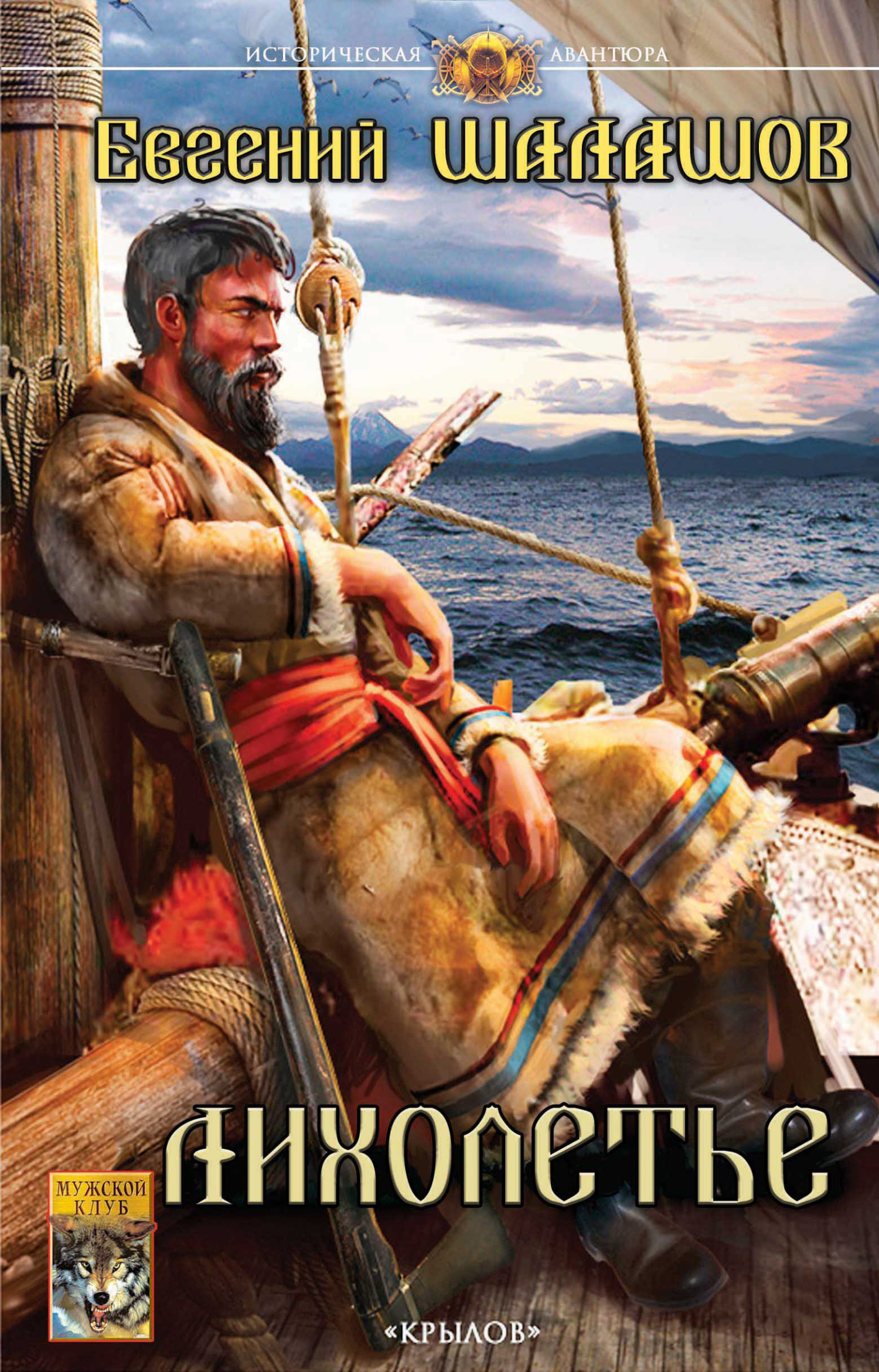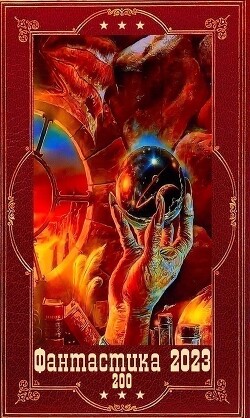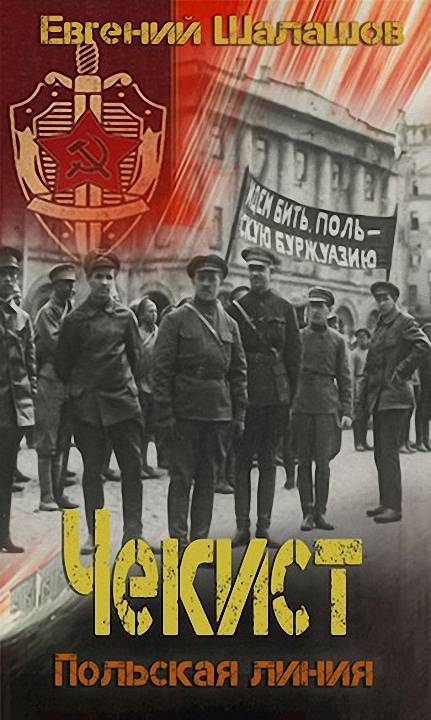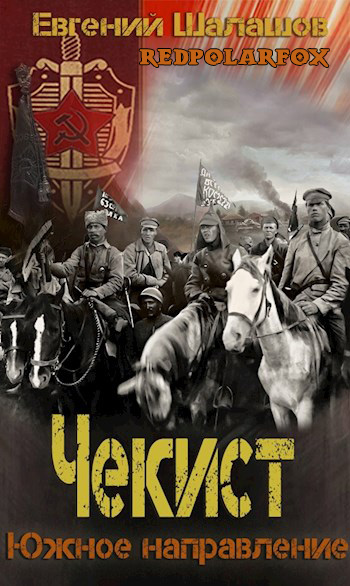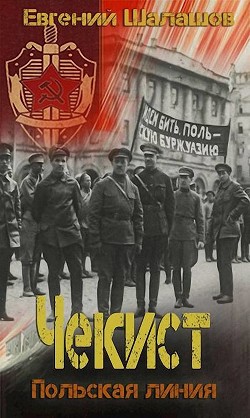волков. Волк резал одну ярушку или ягненка и уходил с добычей, а эти убивали всех подряд, иной раз прихватив и пастуха.
Павел все это знал, но волки – одно, а вот собак, пусть и одичавших и сбившихся в стаю, он не боялся.
– Ах вы, суки поганые! – заорал мужик, хватая новые камни и бросая их в стаю. – Да я вас, псов шелудивых!..
Не договорив, Павел кинулся вперед. И такая в нем взыграла ярость, что, ринувшись на стаю, он готов был голыми руками рвать этих тварей на части, или передушить их всех, ровно щенков.
Одичавшие собаки, у которых где-то в глубине их собачьей души еще жили страх и уважение к человеку, почуяв его злость, поджимали хвосты и удирали. А впереди всех мчался вожак – кобель ростом с теленка, не раз доказывавший свое «атаманство» по праву самого сильного и жестокого. Что ж, теперь он еще и показал, кто тут самый умный. Молодой кобелек, уступавший вожаку по силе и опыту, но уже готовящийся бросить ему вызов, решил поспорить с человеком – оскалил зубы и зарычал…
– Ах ты, засранец! – вызверился на него Павел и треснул пса кулаком по носу.
От боли, пронзившей все тело, кобель жалобно завыл и покатился по земле, а Павел, ухватил его за задние лапы, рывком поднял трехпудовую тушу, «приложил» о землю и, раскрутив над головой, бросил вслед удиравшим падальщикам.
Отойдя к реке, Павел опустился на колени, напился и умылся. Вроде стало легче. Но когда поднимался, почувствовал, как его «повело». Превозмогая себя, принялся собирать палки и ветки, валявшиеся на берегу. Набрав добрую охапку хвороста, похлопал по поясу, нащупывая кису. Когда костер разгорелся, стало веселее. Уже из последних сил Павел притащил и бросил в костер пару деревьев, срубленных кем-то из княжеских холопов.
Проснувшись, Павел поежился от утреннего холода и встал. Ныл не только бок, а все тело болело, но, в общем-то, перетерпеть было можно. С утра бы неплохо перекусить – сварить че-нить, набраться сил, прежде чем товарищей хоронить, – но есть нечего. Онцифир сказал, что в одну ночь обернутся, а к завтраку в стане будут кашу хлебать.
«Эх, Онцифир-Онцифир…» – покачал Павел головой, вспоминая, как к ним на болото пришел долговязый мужик и сообщил, что из Рыбнинска в Кирилловскую обитель пойдет малая барка с боярином и его людьми, но при них деньжата, порты дорогие и оружие! Павел пытался вразумить атамана, но что толку? Онцифиру хоть кол на голове теши – раз боярин, надобно убить! Считал, что все князья и бояре Русь ляхам предали.
Вспоминая, как пленные затеяли «плясовую», Павел поежился. Он даже и не слыхивал, чтобы ногами такие коленца выделывали, что зубы напрочь вылетали! И князь-боярин этот, как его – Даниил Иваныч? – сучок атаману в глаз забил, ровно саблю…
Павел без зазрения совести обыскал тела, снимая с убитых товарищей пояса, кисы, засапожные ножи, ложки – все, что представляло хоть какую-нибудь ценность. С Никитки-охотника стянул сапоги, с атамана не постеснялся снять кафтан и штаны. Снял бы и с остальных, но уж слишком они испачканы кровью и подраны собаками. Решив, что разберется со всем имуществом позже, сложил его в кучу и пошел искать че-нить, чем можно копать землю. Отыскал свой собственный топор да старое весло. Грести им было бы трудно из-за отколотой наполовину лопасти, но, подстрогав его немного, удалось сделать плохонькую лопату.
К полудню братская могила была вырыта. Сложив в нее убитых ватажников, Павлуха насыпал холм и, воткнув сверху крест – два деревца, связанные собственным кушаком, – встал на колени и принялся молиться. Молитв, подходящих к случаю, он не знал, но, истово прочитав раз пять «Отче наш», попросил у Господа, чтобы его сотоварищам, ставшим по злой воле разбойниками, на том свете было лучше, чем здесь. И чтобы все они встретились с теми, с кем были вынуждены расстаться, – с детьми, с женами и матерями, убитыми клятыми ляхами.
Разбойничья стряпуха Акулина не очень-то жаловала Павла. Боялась его лица, покрытого шрамами, замирала, если слышала глуховатый, словно придушенный голос. Сегодня Акулина сидела, уткнувшись Павлу в плечо, как родному брату, мочила слезами кафтан и протяжно выла. Завоешь, коли все мужики, с которыми провела на болоте несколько лет, полегли в одночасье.
Дед Мичура, услышав страшную весть, только хлопал глазами, не зная, верить или не верить. До конца поверил, когда Павел достал из-за пазухи нательные кресты и выложил их на грубый стол.
– Вот, атамана это, Онцифира, – взял старик в руки дорогой серебряный, с позолотой по краям, крест, на серебряной же цепи, коим атаман обзавелся в ту пору, когда был справным хозяином, имевшим и достаток, и уважение. Отложив, подтащил к себе два схожих между собой медных, на кожаных шнурках, с привязанными волчьими клыками: – Охотников наших, Никитки и сынка его, Фимки.
Старик перебирал крестики, различавшиеся между собой, как и их хозяева. Вот деревянный крестик Максимки, который тот вырезал из черемухи, опосля того, как пропил настоящий. Медный крест даточного мужика Матюшки Зимогора, воевавшего у Ляпунова и Пожарского, был вогнут вовнутрь, словно от пули или от стрелы. Крестик Кузьки Шалого был маленький, как и сам хозяин, а у набожного Варсонофия настоящие вериги фунта на три – крест с ладонь и железная цепь в палец. У правильного и рассудительного Афоньки Крыкова и крест был таким же – без единой царапины или потертости, словно и не висел на шее тридцать лет. Если бы сейчас на этом столе лежал шнурок самого Павла, бросилось бы в глаза, что рядом с крестом привязано обручальное кольцо супруги, убитой ляхами. Колечки им делал покойный отец, не пожалев серебряных ефимков.
– Уходить надо, – сказал Павел. – Со мной пойдете?
Дед перебирал крестики, шевеля губами. Видно, вспоминал убитых мужиков. Мичура не сразу понял, о чем его спрашивают, а когда вник, затряс давно не чесаной бородой:
– Куда уж мне… Мне и жить-то осталось всего ничего. Ладно, коли до зимы доживу. А вот Акульке надо.
– А я куда? – криво усмехнулась баба, сморкаясь в передник. – Кому я нужна? Ни дома нет, ни родных, окромя тебя, пердуна старого. Коли ты останешься, так и я останусь.
– Дура ты, Акулина, ой, дура! – укоризненно поглядел на нее Мичура, приходившийся ко всему прочему ей свекром. – Останешься, с голоду околеешь. Мне-то все одно, где помирать, а ты-то еще молодая. Глядишь, мужика еще себе найдешь.
– Ой, да иди ты, – отмахнулась баба, а потом, ухватив старика за голову, заревела в голос: – Помирать нам с тобой вместе…
Павлуха, глядя, как свекор и невестка, жившие прежде как кошка с собакой, плачут и обнимаются, едва не заревел сам