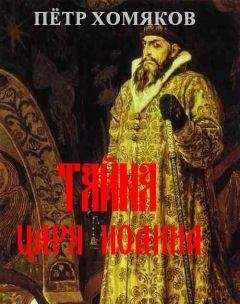У стрельчатого оконца боярышня лениво перебирает в золочёном ларце давно приглядевшиеся забавы. Сонно позёвывая, она одной рукой крестит рот, другая безучастно поглаживает сердоликового мужичка.
Боярышне скучно и неприветно в постылом полумраке до одури знакомой светлицы. Чтобы разогнать наседающее раздражение, которое, как всегда, разрядится долгими, обессиливающими слезами, она с неожиданною поспешностью принялась передвигать и расставлять по-новому столы и лавки. Но и это не успокаивало. Глухой шум говора и пьяного смеха, долетавший из трапезной, переворачивал вверх дном всю её душу, порождал непереносимую зависть и ненависть.
— Матушка! — позвала она сдавленно и, щупая воздух широко расставленными руками, точно слепая, пошла бочком от оконца.
Грузная мамка, бывшая кормилица боярышни, неслышно таившаяся до того в тёмном углу, подскочила к девушке и привычным движением смахнула с её краснеющих глаз повиснувшие слезинки.
Шутиха потёрлась подбородком о горб и тоненько заскулила.
Боярыня очнулась от забытья и истово перекрестилась.
— Не про нас, не про вас, — вся напасть на вас!
И больно ткнула горбунью ногой в бок.
— Не ведаешь, проваленная, что изгореть может нечто, колико воет пёс?
Горб шутихи заходил ходуном от скулящего смеха.
— И доподлинно, боярыня-матушка, проваленная. Токмо кручины тут нету твоей: крещёная яз.
Боярыня сурово сдвинула густо накрашенные брови. Дочь схватила её руку и задышала страстно в лицо.
— Отбывают, должно.
— Кои там ещё отбывают?
Но, догадавшись, подошла тотчас же к оконцу. На крыльце хозяин лобызался с гостями.
Боярыня с нескрываемой злобой следила за обмякшим после пьяного сна мужем. Улучив минуту, сенная девушка оторвалась от кичного чела и с наслаждением потянулась.
Шутиха потрепала её костлявыми пальцами по щеке и шушукнула на ухо:
— Передохни, горемычная, покель ворониха наша слезой тешиться будет.
С трудом оторвавшись от оконца, боярыня повалилась на лавку и сквозь всхлипывания выталкивала:
— Небось и вино солодкое с патокою лакали. И березовец, окаянные, пили. А чтобы нас с Марфенькой гостям показать — николи, видать, не дождаться.
Марфа обняла мать и хлюпнула в набелённую щёку:
— То-то у меня нынче с утра очи свербят. Ужо чуяла — к слезам неминучим.
Шутиха взобралась на лавку и, как сломанными крыльями, замахала искривлёнными ручонками.
— Ведут!
Боярыня с дочерью наперебой бросились к оконцу. Гнилою корягою стукнулась об пол сброшенная с лавки горбунья.
Осторожно и благоговейно, как драгоценные хрупкие сосуды, полные заморским вином, несли холопи на руках пьяных гостей. Симеон, поддерживаемый за спину тиуном, отвешивал поклон за поклоном.
Наконец бояр уложили в колымаги. Застоявшиеся кони весело понеслись к едва видным курганам. Людишки с факелами в руках бежали за гостями до леса. Изжелта-красными бородёнками струились и таяли в мглистой тиши курчавые лохмы огней.
Ряполовский в последний раз ткнулся кулаком в свой сапог и, повиснув на тиуне, тяжело зашаркал в опочивальню.
Боярыня со вздохом присела у крыни[13].
— Ты бы, Марфенька, в постельку легла бы.
Девушка прижалась щекою к липкой от слёз и румян материнской щеке.
— Не люб мне сон. Краше с тобой посидеть.
И, выдвинув ящик, нежно провела рукой по шуршащей тафте.
Мамка достала волосник[14]. Боярыня о гордостью примерила его дочери.
— Твой, Марфенька. А Бог приведёт, будешь боярыней — эвона добром коликим отделю.
Любовно и сосредоточенно перебирали пальцы вороха шёлка, обьяри, тафты и атласа.
— Всё тебе, светик мой ласковый.
Увлекаясь, Ряполовская выдвигала ящик за ящиком.
— Не показывала яз тебе допрежь. Тут и летники, и опашни, и телогреи.
Марфа жадно прижимала к груди приданое. Шутиха, стараясь казаться подавленной обилием добра господарского, то и дело всплёскивала руками и тоненько повизгивала.
— Херувимчик ты наш, — чмокала она икры боярышни, — ты к волоснику убрус[15] подвяжи.
Вытянувшись на носках, горбунья повязала убрус узлом на раздвоенном подбородке зардевшейся девушки и застыла в немом восхищении.
— Да тебе не в боярышнях, а в царевнах ходить, — вставила мамка и, считая, что выполнила всё требующееся от неё, безразлично уставилась в подволоку.
Молочные лучи месяца улыбчато пробрались в светлицу и легли кружевным рушником на жёлтом полу. По краям рушника странным зверком кралась густая тень от горба шутихи.
Боярыня встрепенулась!
— Эк, полунощницы мы.
И кликнула негромко постельницу.
* * *
Тиун неподвижно стоял у низкой двери опочивальни. Боярин сел подле окна, налил корец кислого, как запах бараньей шерсти, кваса и залпом выпил. Антипка грохнулся на пол.
— Князь-боярину на здравье, а нам, смердам, на утешение.
Симеон тупо прислушался.
— Ты, что ли?
— Яз, господарь мой.
Тиун несмело подался на брюхе поближе к князю.
— Отказчик на дворе сдожидается.
Ряполовский надоедливо отмахнулся.
— Недосуг мне… Утресь.
Поднявшись с пола, Антипка остановился на пороге.
— Сказываю, утресь!
— Тешата охальничает, господарь мой. Отказчика того со двора погнали.
Ряполовский вскочил и по-бычьи согнул багровую шею.
— Абие[16] ко мне доставить!
Тиун шмыгнул в сени. В заплывших глазах боярина сверкнули звериные искорки. Стиснув до боли зубы, он стал у порога.
Отказчик робко склонился перед ним.
— Не моя вина. Не токмо надо мной — над твоим именем глумится! — Он возмущённо подёргал кончик, жиденьких усов своих. — Тако и лаял: «Ныне, дескать страдники не ниже высокородных».
— Не ниже?!
Точно клещи, впились в горло отказчика жирные пальцы боярина.
— Убогой сын боярской, Тешата, не ниже вотчинников Ряполовских?!
— Тако и сказывал, господарь! — прохрипел, задыхаясь, отказчик. — «Мы хоть и малым володеем, а холопей не продаём. Самим надобны нынче».
Симеон на мгновение разжал пальцы, отступил и, размахнувшись, с плеча изо всех сил ударил покорно стоявшего перед ним человека.
— Добыть! Доставить!
Тиун бочком подвинулся к боярину.
— Дозволь молвить смерду.
И, коснувшись рукою пола:
— Не в диво нам тех людишек у Тешаты отбить. Токмо бы воля твоя.
— На коней! — топал исступлённо ногами князь, не слушая Антипку.