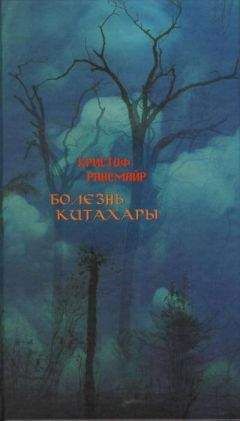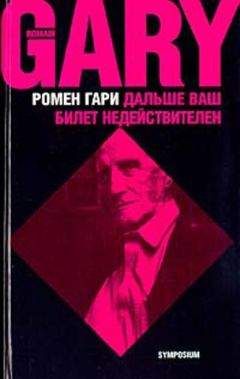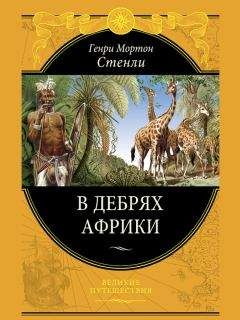Впрочем, попадались и афоризмы иного рода:
Не убивай.
С той поры как инженерная колонна майора Эллиота ликвидировала железнодорожную связь с равниной и Моор бесследно исчез из графиков движения поездов, жители оккупационных зон в ходе долгого процесса демонтажа и разорения мало-помалу уразумели, не могли не уразуметь, что Линдон Портер Стелламур не просто новое имя, принадлежащее некому представителю Армии и администрации победителей, но единственное и подлинное имя возмездия.
В Мооре еще вполне отчетливо и с не угасшим даже после стольких лет возмущением вспоминали день, когда Эллиот впервые приказал населению приозерных деревень сомкнутыми колоннами явиться в карьер: в этот день было не только назначено торжественное открытие треклятой надписи, текст которой давным-давно облетел все побережье, но самое главное – по крайней мере, так сообщалось в листовках и афишах этой первой party, – должны были обнародовать мирный план Стелламура. (Сообщалось также, что явку будут проверять по спискам и отсутствующим на празднике без уважительной причины грозит военный трибунал.)
И вот в назначенный час многочленная, полная и ненависти, и страха процессия потянулась к каменоломне: под водительством секретарей, которых Армия посадила на место прежних, канувших в исправительные лагеря, бургомистров и коммунальных советников, шагали обитатели приозерья по мертвой железнодорожной насыпи, тряслись в запряженных лошадьми и волами телегах по узкой щебеночной дороге вдоль ее подножия или выгребали по озеру на плоскодонках и обветшалых шаландах. Хмурое, приниженное общество, в котором самые отчаянные храбрецы разве что осмеливались, прикрыв рот рукой, шепотом воскликнуть, что комендант окончательно помешался.
Спору нет, так мог распорядиться только помешанный: черные стены барачного лагеря, рваные спирали колючей проволоки и ржавые надолбы были разукрашены точно к веселому празднику. С транспортеров и изломанных трубопроводов, покачиваясь, свисали лампионы, на замшелых гранитных глыбах блестели пучки металлических цветов и ветки из дубовых листьев, которые кузнец несколько дней выкраивал из рулона катаной жести, а торчащую из большой лужи стрелу крана обвивали гирлянды.
– Чтоб он сдох, – сказал кузнец, привязывая свою лодку к причалу каменоломни, и сплюнул в воду.
– Оборони нас от него, – прошелестела кузнечиха и поцеловала ладанку Черной Богоматери.
Где бы Эллиот ни появлялся в тот день на джипе или на патрульном катере, все украдкой, чтоб он не видел, грозили ему кулаком. Но когда в сумерках засветились лампионы и на пяти строчках-ступенях карьера, вспыхнули огромные, в рост человека, факелы, деревни все же выстроились длинными безмолвными шеренгами, неотрывно глядя на еще закрытую надпись, на кричаще-пестрые полотнища в красках войны.
Сшитые из сотен кусков и лоскутьев, из френчей, из перепачканного копотью маскировочного брезента и старых моорских флагов, эти полотнища вздувались на ветру, хлопали и, словно волны прибоя, пробегали над каменными буквами.
Здесь лежат убитые – числом одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят три. А Берингу, который стоял в этот час среди моорцев, и с восторгом наблюдал за каждым из этапов церемонии, и знать ничего не знал о смысле надписи, – Берингу казалось, что под этими подвижными полотнищами блуждают люди и, вытянув перед собою руки, ощупью ищут выход на волю, обратно в мир.
Но, в конце концов, перед закрытой еще надписью в световом конусе прожектора появился все тот же комендант и молча взмахнул рукой. Полотнища сползли вниз, на сырой песок и в лужи, и некоторое время чавкали, пока не замерли в неподвижности, набрякнув водой.
Шеренги молчали. В карьере собралось более трех тысяч человек, но слышны были только озеро, порывы ветра да треск факелов. Побеленная известью, видная издалека, огромная надпись как бы парила над головами, отбрасывая в котел каменоломни зыбкие, сумбурные тени.
Комендант прохаживался перед каменными буквами слов ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ – от «Р» мимо «О» к «П» и «О» и обратно, – конус света двигался за ним. Потом Эллиот внезапно повернулся лицом к шеренгам и, словно отгоняя мух, взмахнул кулаком, в котором были зажаты свернутые наподобие кулька листы бумаги, и выкрикнул:
– Назад! Убирайтесь назад! В каменный век!
Шеренги, усталые от долгой дороги и долгого стояния, недоуменно смотрели вверх, на жестикулирующую фигуру, и не понимали, что из десятка громкоговорителей, прикрепленных к сучьям деревьев и столбам, гремит им навстречу голосом Эллиота послание Стелламура.
Эллиот раз-другой расправил свои листки, упрямо норовившие опять скататься в трубку, наконец поднес их к самым глазам и стал читать параграфы мирного плана, да с такой быстротой, что люди в шеренгах выхватывали только обрывки фраз, иностранные слова, а в первую очередь оскорбления и комментарии, которыми Эллиот то и дело перебивал официальный тон.
Подонки!.. На сельхозработы… сеновалы вместо бункеров… – трещало и хрипело из динамиков, – …не будет больше ни фабрик, ни турбин, ни железных дорог, ни сталеплавильных заводов… Армии пастухов и крестьян… Перевоспитание и преображение: поджигатели войны станут пасти свиней и выращивать спаржу! Генералы возьмутся за навозные вилы… Назад на поля!.. овес и ячмень в развалинах заводов… Капустные кочаны, навозные кучи… а на шоссейных магистралях задымятся коровьи лепешки и будущей весной взойдет картофель!..
После параграфа 22 майор угостил слушателей очередной тирадой, а потом так же внезапно и яростно, как начал, оборвал речь, скомкал листки мирного плана и швырнул под ноги стоявшему рядом человеку – своему ординарцу.
В тот вечер собрание завершилось не духовой музыкой и не гимнами. Шеренги стояли и стояли в тишине, пока не догорел последний факел и выбеленная известкой надпись не стала тусклым пятном среди мрака. Тогда только комендант отпустил деревенских – в ночь.
На следующей неделе была остановлена электростанция на реке; согласно параграфу 9 мирного плана, турбины и трансформаторы с подстанции укатили прочь на русских армейских грузовиках. Однако вооруженным до зубов часовым, охранявшим демонтаж, на этот раз надрываться не пришлось: никто в Мооре не протестовал.
У кого не было в сарае или в погребе дизельного движка, тот опять зажигал по вечерам керосиновые лампы да свечи. На улицах и в переулках ночью царила кромешная тьма. Только на плацу и вокруг доски объявлений у дверей комендатуры мерцали беспокойные венцы электрических лампочек.
Однажды утром два солдата протопали по снегу на холм, к кузнице, и именем Стелламура потребовали вернуть сварочный аппарат. Берингова мать и та не узнала, чем кузнец их подкупил, потому что в конце концов они убрались восвояси с какой-то старой железякой, а сварочный аппарат благополучно остался в подвальном тайнике.
Кузнец в эти дни частенько сидел подле неисправимо помешанного на птицах сына и произносил названия инструментов, но, живя бок о бок с богомолкой женой, он становился все неразговорчивее и даже в пивнушке у пристани давно растерял всех дружков.
Моор неудержимо скользил сквозь годы вспять. Витрины колониальной лавки и парфюмерного магазинчика погасли. По берегам установилась тишина: не конфискованные и не увезенные моторы покрывались пылью. Горючее было на вес золота, как корица и апельсины.
Только там, где в частных домах квартировали офицеры, и близ казарм, в теплом соседстве Армии, всегда хватало света, по субботам допоздна играли оркестры, а по будням – музыкальные автоматы и ни в чем не было недостатка. И все-таки за один-единственный год уже стало заметно, что скользящее вспять время оставляло следы даже в этих резерватах исчезающего Сегодня: численность войск убывала. Взводы один за другим возвращались на равнину. Дома стояли пустые, холодные, и солдаты теряли бдительность – терпели жалкую контрабанду, которая снабжала товаром жалкий черный рынок; порой закрывали глаза на поддельные печати в паспортах и пропусках; безучастно наблюдали, как первые эмигранты покидают эти забытые Богом глухие деревушки. Но что бы ни происходило, со стен канцелярий, с афишных тумб и плакатов неизменно улыбалось лицо Стелламура, портрет лысого поборника справедливости.
Впрочем, майор Эллиот был по-прежнему неумолим. После каждой оттепели буквы Великой надписи в обязательном порядке белили заново, и четыре раза в год – в октябре, январе, апреле и августе – обитателей прибрежных деревень собирали в каменоломню на Stellamour’s Party, и они стояли длинными шеренгами между ямами с грунтовой водой и высоченными стенами зеленого гранита. Вместо того чтобы предоставить события их естественному течению и позволить ужасам военных лет мало-помалу поблекнуть и затуманиться, Эллиот изобретал для этих мероприятий новые и новые мемориальные ритуалы. Похоже, комендант и сам был пленником прошлого, которое вновь и вновь приказывал ворошить.