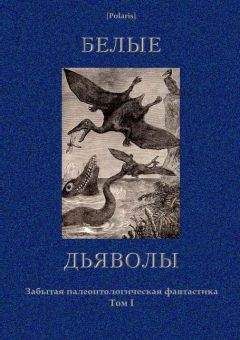— А не споешь ли ты нам, пан Мыкола? Он славно поет, пане Адам, жаль, кобыз не захватил!
— Да что-то не хочется, пане значковый!
— А ты еще хлебни! Во-о-о! И мы с тобой!
Хмель постепенно берет свое. Почему бы не выпить со смертью! Рябая безносая смерть играет на турецком кобызе…
— Так про что спеть, пане значковый? Про Ивася Вдовиченко или про Настю Горовую?
— Да ну их всех! Давай чего веселее! Пан Горбатько прокашливается, поправляет усы, заводит тяжелым басом:
— То не тот ли хмель, что у тычины вьется?..
— Ото дело! — удовлетворенно кивает пан значковый. — Давай, хлопцы!
Гей, то пан Хмельницкий, что с ляхами бьется!
Гей, поехал пан Хмельницкий да к Желтому броду.
Не один там лях лежит головою в воду.
Нет, не пей, батько Хмель, ты той Желтой Воды:
Идет ляхов сорок тысяч хорошего роду…
Уже не пели — орали. Мне внезапно почудилось, что эта песня — для меня. Чтобы перед смертью понял латинщик, с кем связался!
Утекали с поля ляхов разбитые полки,
Ели ляхов там собаки и серые волки.
Утекали вражьи ляхи, потеряли шубы
Не один там лях лежит, оскаливши зубы!
Спели раз, затем затянули по новой, потом вновь пустили филижанку по кругу.
— Эх, не в показанное время вы, пане зацный, в поле наше собрались!
Кажется, меня уже начали жалеть. Того и гляди плакать начнут!
— Скольких мы таких, красивых да умных, под Корсунем попластали, а, пане Мыкола? А под Пилявцами? А у Львова? А какие паненки там были! Как плясали, как юбки задирали!
Теперь я слушал вполуха. Если незаметно отползти в сторону, в темную ночь, залечь в траве. Станут искать, разойдутся по одному…
Нет, не станут — умные. А утром в степи нагонят!
— А как в Полонном жидов резали! Ой, резали! А добра сколько взяли! Китайку на онучи мотали, шаровары дегтем мазали — не жалко! А жидовочек как крестили! Любо-дорого!
Кажется, крещение у «панов молодцов» — любимое занятие. То в Трабзоне, то в Полонном.
Лыцари!
— А та панночка, пан гидравликус, что с вами, она как, мягкая? Небось выучилась у басурман всяким штучкам! Ничего, и нас, сучонка, поучит!
* * *
Я лег на спину, закинул руки за голову. …Забытые звезды, нелепый ковш, острый зрачок Полярной…
Где ты, Южный Крест?
— Пане Адам, пане Адам! То просыпайтесь, пане зацный! В голосе пана значкового — тревога. С чего бы это?
— То скорее!
Будил он меня зря — за всю ночь я не спал и минуты. Умереть во сне никогда не поздно — но и спешить ни к чему.
Я откинул плащ. Утреннее солнце резануло по глазам. Среди дымящейся золы дотлевали угли.
— Беда, пан Адам!
Кажется, действительно беда. И дело даже не в том, что глаза у пана значкового с венецианский цехин размером. К кому за подмогой прибежал? Ко мне?
— Клад-то ваш!.. Ой, нехороший тот клад! Утром, как солнце встало, просыпаюсь, а пана Мыколы и нет. Он последним в эту ночь сторожил, от утренней звезды до рассвета…
…Это я слышал. Сидел пан Мыкола, вздыхал, затем прошелся, нужду справил, после вновь повздыхал. А потом тихо стало.
— Мы-то с паном Пилипом на могилу поднялись, глядим!.. Ой, недобрый же ваш клад!
Я молчал, хотя сказать было что. Даже купец, когда от разбойников золото прячет, без верного слова клад не оставит. А «панове молодцы» решили поживиться за счет Общества Иисуса Сладчайшего! Да я бы к такому кладу по своей воле и за милю не подошел!
Роса на траве, на сапогах, на сером камне…
— Вот, вот… О, Господи, пане Щур! Пилипко! Он кинулся вперед, путаясь в высоком ковыле, но опоздал. Рука парня еще дрожала, в глазах бессильно и беззвучно кричала боль, но Пилип Щур был уже в объятиях Черного Херувима. Как и Мыкола Горбатько. Как и третий, мне незнакомый.
Камень был тот же, неровный, с еле различимой литерой «М» на темном сколе. Изменилась земля. Там, где вчера ровно стояла трава, чернела глубокая яма. Среди рыхлой земли ярко светились тяжелые золотые кругляши. Рядом — распавшийся ларец с остатками серебряного узора.
Тот, кому это принадлежало, смотрел пустыми глазницами в глубокое весеннее небо. Сквозь истлевшую черную кожу светилась желтая кость. Щербатый оскаленный рот смеялся, на макушке чудом уцелел клок седых волос.
Он умер давно. Не сегодня, не месяц назад.
Голова пана Мыколы уткнулась прямо в грудь мертвеца, скрюченные пальцы сжимали черную жирную землю. Пана Пилипа смерть уложила навзничь, чуть в стороне от остальных. Возле левой руки парня темнело что-то большое, очень знакомое.
Распятие?
— Ничего не трогайте, пане значковый. Вы меня поняли?
— Но… Пане Адам!..
— Я сказал: не трогайте!
Итак, поглядим! Осторожно, ничего не касаясь. Очень осторожно!
…На трупах — ни крови, ни синяков, ни дыр в одеже. Все случилось очень быстро. От этого места до кострища минуты три ходу, а когда пан Васыль собрался меня будить, его товарищ был еще жив. И даже умирать не думал.
Но все-таки умер!
Сзади послышался тяжелый вздох.
— Видать-таки, заговорили клятое золото на головы! Знать бы, на сколько!
У меня был ответ. На все — на все глупые головы, посмевшие покуситься на Тайну.
— Ларец стоял сверху, на груди покойника, — заметил я. — Пан Горбатько его открыл… Погодите, что это?
Я склонился над остатками ларца. Дерево казалось еще крепким, ларец просто разбили, вероятно, чтобы не подбирать ключ к замку.
— Воск! Щели были залиты воском!
— И что с того? — Пан Васыль присел рядом, протянул руку к золоту, но тут же отдернул. — Воск — не гадючий яд!
Я встал, на всякий случай отряхнул руки, на миг закрыл глаза. Вот, значит, какая она, Смерть! А я ждал ее от казацких сабель!
Рядом послышалось бормотание — пан значковый читал молитву. Стало стыдно — мне бы хоть лоб перекрестить!
— Итак, утром вы не нашли своего товарища и отправили пана Пилипа на поиски…
— Отож, — вздохнул он. — Да чего искать-то было? Следили мы за вами, пане зацный, и камень этот, понятно, приметили. Пошел Пилипко шагом, а обратно — бегом. Слова не сказал, схватил за руку…
— И вы тут ничего не трогали? Все так и было?
Пан Васыль отошел в сторону, задумался, покрутил густой ус.
— То… То вроде так и было. Мертвяк в могиле, на нем Мыкола, вечная ему память. Ну и золото, дидько б его взял! А! Крыж иначе лежал!
Крыж? Ах да, распятие! Я уже успел разглядеть его — серебряное, с чернью тонкой работы, по углам креста — граненые камни чистой воды.